В картине итальянского режиссера Этторе Скола терраса старинного римского палаццо превращена в подмостки, на которых разворачивается современная драма. Главный ее герой — поколение шестидесятилетних, вскормленное свободолюбивыми мечтами и идеалами эпохи Сопротивления. Люди, которые на этой террасе едят и пьют, говорят о серьезном и шутят, ссорятся и любят друг друга,— все эти люди в том или ином амплуа представляют современную итальянскую культуру.
В калейдоскопе лиц режиссер фильма «Терраса» (1980) выбирает пятерых — это сценарист Энрико (Ж-Л. Трентиньян), журналист Луиджи (М. Мастрояни), продюсер Амедео (У. Тоньяцци), редактор телевидения Серджо (С. Реджани), коммунист, занимающийся вопросами культуры, Марио (В. Гассман) — и рассказывает о каждом из них новеллу, выводя повествование за пределы террасы, но неизменно возвращаясь на нее за новым персонажем очередной истории. Такой неожиданный прием позволил режиссеру рассказать объемно о кризисе, который охватил сегодня разные сферы национальной культуры. Не случайно фильм начинается новеллой об Энрико, сценаристе, которого покинуло вдохновение. Потеряв чувство юмора, разучившись видеть комическое, бывший автор комедий вынужден заниматься халтурой. Заканчивается же фильм новеллой о Марио, коммунисте, который занимается вопросами культурной политики.
В такой последовательности режиссеру видится внутренняя логика, когда разговор, начавшийся с проблем кризиса профессионального, завершается разговором о кризисе мысли, об отсутствии в среде художников идеи, способной оздоровить национальную культуру. Героев, таким образом, пять, но есть еще один — главный. Это поколение, групповой портрет которого живописно и влюбленно рисует Скола.
Герои фильма представители привилегированного слоя общества, но ни благополучие, ни прочие признаки «сладкой жизни» не могут вернуть юношеский задор, творческое горение, увлеченность любимым делом. Их нынешний удел — усталость, болезни, сентиментальные воспоминания о молодости, о времени безумных надежд и планов. Да, будущее стало прошлым, а они этого и не заметили — эта ностальгическая интонация пронизывает весь фильм и превращает его в торжественную и горестную церемонию прощания с целой эпохой в итальянском киноискусстве, рожденной Сопротивлением. В фильме «Терраса» нашли отражение самые болевые точки современного состояния итальянской культуры, та борьба идей, которая в ней происходит. Продолжая горькую мысль Скола, можно сказать, что да, действительно итальянское кино переживает сегодня трудное время.
Уходят из жизни режиссеры, с именами которых связано рождение неореализма, успехи и расцвет национального кинематографа, его мировой престиж а также судьбы нескольких поколений итальянских кинематографистов. Не стало Роберто Росселлини, Лукино Висконти, Витторио де Сика, Пьетро Джерми, трагически погиб Пьер-Паоло Пазолини. В то же время минувшее десятилетие не принесло новых значительных имен. Да, кино как вид искусства испытывает трудности, но кино как индустрия развлечении процветает. И это еще одна горькая тема, нашедшая отражение в фильме Э. Скола. Кризис настиг итальянское кино в период его расцвета. Вероятно, поэтому в Италии он протекает в особенно драматической форме по сравнению с другими странами Западной Европы.
Ведь именно в Риме по инициативе итальянских творческих союзов состоялась конференция «Творчество против стандартизации». Выступая на этой конференции, ведущие кинематографисты Западной Европы справедливо говорили о том, что нивелирование индивидуальности художника, сведение всего богатства идей и выразительных возможностей кино к пользующемуся успехом шаблону неизбежно приведут к уничтожению культурной самобытности народов, национального своеобразия искусства. Тревога прогрессивных западных, в том числе и итальянских, кинематографистов понятна: наступление на национальное киноискусство ведется со всех сторон. Рынок выдвигает свои, не всегда совместимые с искусством и творчеством требования, изнуряет конкуренция с телевидением, огромное распространение получили видеокассеты, в прокате прочно обосновались голливудские фильмы.
Говоря о современном итальянском кино в целом, следует отметить, что за последние пять-семь лет в нем произошли значительные изменения, отражающие изменения в жизни итальянского общества, растерянность перед лицом сложной и противоречивой действительности. Социально значимые темы столь характерные для итальянского кино рубежа 60—70-х годов, прозвучавшие в таких фильмах, как «Признание комиссара полиции прокурору республики», «Следствие закончено — забудьте», «Человек на коленях» Д. Дамиани, «Следствие по делу гражданина вне всяких подозрений» Э. Петри, «Сиятельные трупы» Ф. Рози, «Подозрение» Ф. Мазелли и многих других, к концу десятилетия практически исчезают из репертуара.
Фильмы, снятые на рубеже 70—80-х годов представляют этот период как время отхода от политической тематики. Мировосприятие итальянских художников в эти годы становится более мрачным, апокалиптическим, а фильмы — пронизанными чувством безысходности («Тодо модо» Э. Петри, «Репетиция оркестра» Ф. Феллини, и др.) И все же вопреки кризису, поразившему национальную кинопромышленность, итальянские мастера с присущей им проницательностью пытаются проанализировать современное состояние общества, обнаружить причины духовного кризиса и найти те здоровые силы, которые смогли бы совершить чудо выздоровления. Это и понятно.
Стремление к правде, какой бы горькой она ни была, и поиск положительной альтернативы— родовые черты прогрессивного итальянского кинематографа со времен неореализма. В фильмах, созданных наиболее маститыми режиссерами Италии на рубеже 70—80-х годов, с достаточной определенностью прослеживаются две тенденции. Первая анализирует духовно-психологический климат в обществе, уставшем от терроризма, убедившемся в несостоятельности буржуазной демократии, с безнадежностью глядящим в свое будущее. Вторая тенденция, напротив, в обращении к недавней или далекой истории страны стремится найти веру в возможные позитивные социальные перемены, найти силы, способные эти перемены осуществить.
Именно об этих двух тенденциях и пойдет речь. Некоторые ведущие итальянские режиссеры в своих работах этих лет отдали дань и тому и другому направлению, поскольку оба являются выражением требований времени. В фильмах, анализирующих духовный кризис общества, объектом исследования для художника все чаше становится частная жизнь человека, мир буржуазной семьи. Социально-политические проблемы таким образом уступают место индивидуально-психологическим.
Если в политическом кино такие режиссеры, как Ф. Розн, Д. Длмнани, Э. Петри, Ф. Мазелли, Д. Монтальдо, Ф. Ванчнни, Д. Феррара и другие показывали, как коррупция, бюрократизм, преступность, мафия подрывают государственные устои, губят страну, то теперь они пытаются исследовать истоки личных драм, найти, что разъедает и губит человеческие сердца и души. Если в политическом кино характер героя типизировался в комплексе воздействующих на него социальных факторов, делая, таким образом, объектом психологического анализа социальную психологию, то теперь художник чаще сосредоточивается на внутреннем мире человека.
И вероятно, закономерно, что в этой атмосфере внутреннего разлада, в обстановке духовного оцепенения М. Бсллоккио обратился к экранизации чеховской "Чайки". Дебютировав фильмом «Кулаки в кармане», полемичная заостренность которого была скандальной, эпатажной, он отразил в своем творчестве рубежа 60—70-х годов идеи левоанархистского молодежного бунта, получившего название Контестации, идеи ниспровергательства и тотального негативизма. И вот теперь он обращается к Чехову, размышления которого о сущности призвания художника оказались созвучны его внутренней потребности в перестройке, в определении своих творческих задач в соответствии с требованиями нового времени.
Поэтому фильм Беллоккио, сохраняющий уважительную верность чеховскому тексту, помог режиссеру ответить на целый ряд вопросов, тревожащих сегодня итальянскую художественную интеллигенцию. Экранизация чеховской «Чайки» показательна не только как иллюстрация определенных умонастроений в среде итальянской интеллигенции в конце 70-х — начале 80-х годов, но и как своеобразный подступ к новомут этапу в творчестве самого М. Беллоккио.
Следующая картина Беллоккио «Прыжок в пустоту» (1980), безусловно, является результатом соприкосновения режиссера со спецификой чеховской драматургии, в которой огромную роль, как известно, играет принцип внутреннего действия. «Прыжок в пустоту» — это картина о «безумии» нормальных на первый взгляд людей. Безумие, как считает автор, в нынешнее время поражает всех (здесь вспоминаются темы 60-х годов — одиночество и некоммуникабельность, наиболее резко прозвучавшие в творчестве Антониони), поэтому частная история, рассказанная режиссером, обыкновенна и типична одновременно.
Нервозность и стрессы, усредненное однообразие жизни, складывающейся из привычек, повторяющихся действий, ничего не значащих разговоров, навязчивая череда однообразных дней — все это превращает жизнь в существование томительное и обезличенное. В руках Беллоккио кинокамера становится тем инструментом, который способен тонко анализировать это «ординарное безумство» современного человека, его частный случай, историю отношений брата и сестры, Мауро (М. Пикколи) и Марты (А. Эме) Понтичелли. Мауро и Марта живут в доме своих родителей, где все хранит память о прошлом. Мауро — судья, Mapта — ведет их общий дом. Уже в первом эпизоде картины режиссер тонко создает гнетущую атмосферу дома, где, словно пленники, вынужденно находятся двое, обреченных на пожизненное заключение.
Ненавязчиво, едва уловимыми штрихами дает режиссер понять, что такой завтрак, как сегодня, повторяется до мелочей, изо дня в день, из года в год. Томительно движется время, утренний завтрак кажется бесконечностью, сущим наказанием. Постепенно дает о себе знать скрытое раздражение каждого. Марта на грани срыва: жизнь ей кажется конченной, а добровольное «служение» брату — жертвой, лишенной всякого смысла.
Мауро тоже страдает, но его страдание эгоистично, ведь депрессия Марты нарушает тот порядок, стражем и хранителем которого он себя назначил. У Мауро зреет мысль избавиться от сестры и стать наконец независимым от ее опеки, свободным. Сюжет фильма разворачивается таким образом, что план Мауро словно бумеранг обращается против него самого. Марта, хоть и не кончает жизнь самоубийством, как замыслил ее брат, но оставляет его, уезжает к морю.
Оставшись один в доме, Мауро бродит по комнатам, он абсолютно одни, он хозяин, он признается себе, что теперь может делать все, что ему захочется… И следующий его шаг — самоубийство, прыжок в пустоту. В повествовательную структуру фильма включены сновидения — воспоминания Марты, смысловая функция которых в том, чтобы увидеть в эпизодах детства скрытые причины психологических стрессов, подстерегающих и ее, и Мауро теперь, когда им обоим под пятьдесят. Таких сновидений-воспоминаний в фильме три: из них мы узнаем, что Мауро был нервным, склонным к депрессиям ребенком. Его жизнь с Мартой, добровольно взявшей на себя униженную подчиненную роль, и профессия судьи («Я защищаю себя от жизни, приговаривая других к смерти»,— говорит Мауро) не помогли ему, однако, возместить присущую ему инертность, раздражительность и неспособность к роли лидера, которую он на себя взял. Марта, напротив, человек со здоровой, крепкой психикой.
Она отказалась от личного счастья во имя брата, но это моральное обязательство обернулось против нее: ей тоже захотелось избавиться от него хотя и не ценой его смерти. Таким образом, личная драма этих людей, пытается объяснить режиссер, заключена в неправильно взятых на себя социальных ролях.
Совмещение реальности и сновидений, кроме смысловой функции, создает удивительный экспрессивный стиль фильма, где реальность провоцирует фантазию, которая, материализуясь (детские фигурки бродят по дому, включаются в жизнь взрослых его обитателей), составляет часть реальности. Для Марко Беллоккио с этим фильмом связаны и некоторые политические идеи. Режиссер полагает, что его фильм «может оказаться той почвой, на которой будет возможен диалог с внешним миром, то есть с людьми, очень похожими на нас прежде всего потому, что и они прошли через опыт 1968 года и сегодня живут в изоляции, лишенные надежды и не понимающие причин краха некоторых коллективных иллюзий». Исследование внутреннего мира человека средствами психологического анализа играет важную роль и в фильмах, ставящих одну из главных проблем современной Италии — проблему терроризма.
Таких лент становится все больше, с особенной настойчивостью обращаются к этой теме молодые итальянские режиссеры, потому что терроризм в Италии во многом порождение той части молодежи, которая осталась неудовлетворенной разрушительными идеями контестации. Первыми же в кино к проблеме терроризма обратились режиссеры, за плечами которых был опыт политического кино,— это Б. Бертолуччи в фильме «Трагедия смешного человека» (1981) и Ф. Рози в фильме «Три брата» (1981). В интервью по поводу своей картины Б. Бертолуччи так охарактеризовал положение в стране: «До сих пор еще не известно ни одно имя из тех, кто стоит за всеми этими покушениями, за всеми происходящими в Италии событиями. Ничего не известно, жизнь протекает в густом тумане. Именно поэтому я говорил себе, что не имею права давать объяснения и рецепты.
Я думаю, что любое объяснение было бы весьма и весьма относительным. Например, те судьи в Италии, которые каждый раз пытаются найти объяснения, уже на следующий день получают факты, опровергающие эти объяснения. Поэтому позвольте мне защитить мою собственную свободу в том смысле, что, приступая к работе над фильмом о современной Италии, я добровольно отказываюсь от объяснений. Здесь встает вопрос реализма — поступи я иначе, я был бы полностью ирреален…»
Эти слова многое объясняют в картине «Трагедия смешного человека» и в первую очередь множественность точек зрения на происходящее. В этой стереоскопии заключена принципиальная авторская позиция. В основу фильма положен реальный, весьма драматический факт, который на экране выглядит порой шутовским фарсом. Примо Спаджари, владелец небольшой фабрики в долине По (У. Тоньяцци), видит с крыши своего дома похищение сына неизвестными лицами. Вскоре он получает письмо с требованием солидного выкупа. Отец пытается разыскать сына и спасти его. Он бросается к его друзьям в надежде на помощь и сочувствие, но они ведут себя странно и двусмысленно, так что Примо начинает думать, уж не террористы ли они. И только в финале обнаруживается обман: сын подстроил свое собственное похищение, рассчитывая, что на полученный «выкуп» он сможет вместе с друзьями организовать сельскохозяйственный кооператив.
Разыскивая сына, Примо Спаджарп пытается понять, что за человек его сын, кто они — его друзья, какое оно — это поколение, в котором «каждый может выстрелить тебе в спину». Гротеск и фарс, абсурдность происходящего и реальный драматизм, смешение привязанности и ненависти, любви и абсолютного отчуждения, страха, настороженности и взаимопонимания рождают странное ощущение двусмысленности всего происходящего, которое режиссер сознательно возводит в принцип изображения и даже объясняет в драматургии. События фильма происходят ранним утром после затянувшегося пиршества по случаю дня рождения Примо.
Поэтому постоянно присутствует сомнение — то ли все происходящее тягостный кошмар физически разбитого человека, то ли все же реальность, но увиденная сквозь мутную пелену похмелья. Если в фильме «Прыжок в пустоту» сны были условным элементом, объясняющим человека, то в картине Бертолуччи изображенная реальность столь фантастична, что он предпочитает намекнуть на то, что она сон, фантазия «больного» воображения, нежели пытаться объяснить ее. Грань между реальностью и фантазией или метафорической условностью в фильме Ф. Рози «Три брата» более определенна, не столь размыта. В этой своей работе известный итальянский режиссер попытался рассказать о терроризме, но не в традиционном для него жанре остропублицистического документа, а в жанре бытового рассказа.
Переход от одной повествовательной формы к другой Рози осуществил в предыдущем фильме «Христос остановился в Эболи», который можно назвать в этом смысле пограничной работой. В обеих лентах режиссер обращается к некоторым принципам неореалистической поэтики — объективная камера, неторопливая бытопись, достоверная фактура, непрофессиональные исполнители, которые создают, однако, эффект почти ирреальный. Так в фильме «Три брата» возникает образ древней, выжженной солнцем земли, будто молчаливой планеты, на которую, словно пришельцы другой цивилизации, приезжают три брата — Рафаеле, Рокко и Николо Джуранна. Братья — судья, воспитатель, рабочий, не только представители разных социальных слоев страны, но и разных ее областей: римлянин, неаполитанец, туринец.
Жизнь давно разбросала их, и вот теперь им случилось встретиться, совсем чужим людям, в родной деревне, где только что умерла их мать. Это реальное событие, которое ассоциируется с символическим возвращением героев в альма-матер, к истокам, в крестьянский дом отца, становится их прощанием с прошлым, с детскими воспоминаниями, с крестьянской родословной. В их вечерних спорах встают проблемы, которыми живет другая, отнюдь не такая идиллическая Италия, какой она может показаться здесь, в этой патриархальной южной деревне.
Но не столько разговоры братьев, сколько сны, составляющие другой, условно-метафорический компонент фильма, выявляют те душевные травмы, которые нанесла им жизнь. Все скрытые страхи и подавляемые, глубоко спрятанные желания ночью, во снах обретают вид реальности и раскрывают человека и окружающий его мир с не меньшей достоверностью, чем пристрастное документальное расследование. Судья видит во сне собственную смерть от руки террористов, расследованием преступлений которых он сейчас занимается. Рабочий — возвращение жены, которой он не может простить измену. Воспитатель видит сонутопию, образ новой жизни, в которой нет места насилию, наркотикам, преступности.
Есть еще один человек, которого посещают видения прошлого — сны. Это отец трех братьев, старик, образ которого олицетворяет жизненные истоки и утопическую мечту о возможности непритязательного счастья на лоне живописной природы юга Италии. Светлые воспоминания отца трогают своей ностальгической прямотой: прошлое прекрасно, но оно безвозвратно уходит, так же как медленно тает фигура самого старика в черном проеме двери опустевшего дома, куда он возвращается после похорон жены.
И сыновья, объединенные общим чувством потери, оплакивая мать, оплакивают и самих себя, свое безвозвратно ушедшее детство, свой окончательный разрыв с этим миром, который уже не может служить им убежищем от проблем реальной взрослой жизни. В фильмах братьев Тавиани интерес к миру человеческой личности, к процессу духовного становления человека во второй половине 70-х годов становится ведущей темой творчества.
Действие фильма «Луг» происходит в средневековом городке Сан-Джиминьяно, расположившемся в живописном уголке провинции Тоскана. Зеленый луг, раскинувшийся у замковых стен города, олицетворяет собой тему земли как источника всех духовных и материальных ценностей, которая лейтмотивом звучит в фильме. Герой фильма Джованнн, выполняя семейное поручение отца, приезжает в Сан-Джиминьяно. Эта поездка тревожит его, потому что он возвращается в места своего счастливого, безмятежного детства и надеется там обрести утраченную гармонию жизни, понять себя, разобраться в своих желаниях. Здесь он встречается с девушкой по имени Эуджения и влюбляется в нее.
Но Эуджения, инстинктивно симпатизируя Джованнн, чувствуя в нем родственную душу, не может оставить своего друга Энцо, понимая, что он пропадет без нее. Джованнн возвращается в Рим. В жизни всех трех героев действительность не совпадает с мечтой. Джованни занят юриспруденцией, но все его помыслы отданы кино; Эуджения — археолог, однако служит на почте, а увлекается театром для детей, вместе с которыми в живых декорациях старинного городка ставит сказку «Волшебная флейта», рассказывающую о том, как сказочное добро победило сказочное зло. Энцо — агроном, мечтающий создать сельскохозяйственный кооператив, отвоевав под него луг, принадлежащий богатым землевладельцам, но ему приходится работать в магазине, быть покорным и услужливым вопреки своей бунтарской, свободолюбивой натуре.
Мечта о том, что восторжествует справедливость и каждый сможет осуществить себя, и есть та самая утопия, о которой так часто говорят братья Тавиани применительно к своему творчеству. Утопия позволяет им органически сочетать в структуре фильма реальное и вымышленное, действительность и мечту, но было бы неверно отождествлять ее с бегством. Утопический реализм братьев Тавиани не несет в себе внутреннего противоречия. Напротив, он многозначен: это и фабульный прием и стилистическая модель, это и политическая концепция, это, наконец, способ познания возможностей человека. Именно эти особенности творческого почерка режиссеров сближает их с тенденцией к объяснению реальности через фантазию или условный прием (как, например, сон), характерный для большой группы фильмов рубежа 70—80-х годов.
Таково первое направление развития современного итальянского кино. Можно было бы сказать, что рассмотренные фильмы представляют собой искусство кризисной эпохи. Но это было бы верно лишь отчасти. Думается, мы будем ближе к истине, если отметим, что интерес к процессу становления духовного и нравственного статуса личности, желание увидеть в психологии истоки нынешнего кризиса отнюдь не бегство от социальной действительности, а, напротив, попытка аналитического исследования ее существенных, весьма симптоматичных сегодня черт современности.
Вместе с тем жизнеспособность и долговечность этой тенденции вызывает справедливое сомнение особенно при сопоставлении ее с другим направлением. Речь идет о явлении, которое за последние пять лет описало почти полный жизненный круг и, может быть, прошло пик лучшей своей формы. Речь идет о «крестьянских фильмах», обращенных к жизни народа. Несмотря на очевидные противоречия в идеологической позиции некоторых авторов «крестьянских фильмов»,существенно ослабляющие прогрессивное в целом содержание этих произведений, это все же очень значительная линия развития итальянского кино. В этих фильмах предпринята не часто встречающаяся в западном искусстве попытка перейти от критики некоторых сторон буржуазной действительности к поискам позитивной программы.
И очень существенно, что именно сегодня, в обстановке глубокого и затяжного кризиса, который переживает страна, итальянские художники видят эту перспективу в народе, в его борьбе, в его культуре. В 1976 году подлинным гвоздем программы Каннского фестиваля стал «XX век» Б. Бертолуччи. С него началось что-то вроде бума крестьянской темы в итальянском кино. В течение последующих пяти лет «крестьянские фильмы» следовали буквально один за другим, причем их шествие по экранам мира было поистине триумфальным. Ровно через год, в 1977 году, высшую награду Каннского фестиваля получила картина Паоло и Витторио Тавиани «Отец—хозяин», а в 1978 году — «Дерево для башмаков» Э. Ольми. В 1979 году картина Ф. Рози «Христос остановился в Эболи» завоевала главный приз XI Московского кинофестиваля, а в 1981 одним из лучших фильмов на XII Московском кинофестивале была «Фонтамара» К. Лидзани. Сама по себе эта тема не новая в итальянском кино.
Прогрессивные итальянские кинематографисты, продолжая демократические традиции неореализма, гораздо чаще своих западных коллег обращаются к изображению народной жизни, причем фильмы на крестьянскую тему составляют в этом потоке явное большинство. Однако хотя «крестьянские фильмы» и вписываются в эту традиционную для итальянского демократического искусства тематическую линию, они обладают целым рядом иных обших типологических черт, которые как раз и позволяют говорить о новом направлении итальянского кино и даже о качественно новом «жанре».
Подтверждая своей поэтикой тенденцию к психологизации, обобщению, притче, наметившуюся в современном итальянском киноискусстве, эти фильмы являются новыми и в том смысле, что их появление свидетельствует о смене умонастроений определенной части левой итальянской интеллигенции, о кризисе и дальнейшей эволюции движения протеста 60-х годов и леворадикальной теории.
После увлечения левацкими лозунгами, гласившими, будто в потребительском обществе трудящиеся массы теряют свою революционность и интегрируются в систему, после краха леворадикальных концепций об интеллигенции и молодежи как застрельщиках революции некоторые такие значительные в прошлом представители молодежного движения протеста, как Ф. Рози, Б. Бертолуччи, П. и В. Тавиани связывают свои надежды на революционное преобразование общества с народом, его борьбой, его культурой. Правда, само понятие «народа программно отождествляется в их фильмах с крестьянством и нередко трактуется символически, обобщенно, в ракурсе нового варианта мифа «естественного человека», который сдвигает реалистически-достоверное повествование из народной жизни к аллегории и притче.
Но как раз одна из характерных и тоже программных особенностей «крестьянских фильмов» заключается в том, что в них этот миф «естественной жизни» выступает не в значении традиционного «бегства в природу», а приобретает политико-идеологическое значение. Естественной, в данном случае трудовой крестьянской жизни придается смысл антагонистического противостояния существующему порядку. Причем этот идеологический смысл оказывается заключен в них в форму как бы самотворящейся на глазах зрителей народной культуры.
Реалистически достоверное, документальное воссоздание крестьянского бытия естественно и органично переходит в этих картинах в его художественный образ, в некое подобие саги, народного эпоса, рождающегося непосредственно из народной жизни. И в этой программной фольклорности— еще одна особенность поэтики «крестьянских фильмов». Наиболее откровенно политическим в трактовке народного существования был первый из «крестьянских фильмов» — «XX век». Как говорил Бертолуччи в многочисленных интервью, посвященных этому фильму, на примере провинции Эмилия-Романья, которая и сегодня остается «красной провинцией» Италии, он хотел рассказать о жизни народа сквозь призму истории XX века— эпохи революции и классовых битв, характеризующейся ростом политической сознательности народных масс, выходом их на политическую арену.
В прежних своих фильмах Бертолуччи нередко отдавал дань леворадикальной идее разрушения традиционных художественных форм как форм буржуазного искусства. Теперь он приходит к идее создания массового народного зрелища с помощью использования этих знакомых и популярных форм. В стилистике его фильма органично переплетаются элементы таких традиционных и популярных жанров кино и литературы, как комедия и мелодрама, семейная хроника, историческая драма и народная эпопея. Эти очевидные литературно-художественные реминисценции соседствуют с карнавальными, фольклорными и даже лубочными принципами интерпретации образов, мотивов, ситуаций в качестве наиболее подходящих моделей для повествования о народной жизни. Так, первый свой протест-предупреждение фашисту Агтиле крестьяне осуществляют в символической, игровой, карнавальной форме — развенчивают на манер карнавального дурака, забрасывая навозом.
Пролог и эпилог, символизирующие победу над фашизмом и народную революцию, также выстраиваются режиссером как гигантское карнавальное действие, окрашенное в красный цвет революции,— цвет флагов, женских косынок, бантов в петлицах, цвет огромного красного купола-шатра, сшитого из красных лоскутов всех оттенков, под которым происходит символическое, карнавальное судилище над хозяином. А история дружбы-соперничества Ольмо и Альфредо, которая составляет сюжетно-тематический стержень всей картины и в которой, по словам Бертолуччи, заключена главная идея классовой борьбы, имеет аналоги не только в европейском романе XIX века, но и в традиционном сказочном сюжете о совместных приключениях двух молочных братьев — господского сына и крестьянского.
Такое художественно-образное преломление истории и политики, которые органично вписываются в жизнь персонажей, делает картину Бертолуччи особенно значительной. Однако метафоризация политического содержания того или иного события нередко приводит к двойственности его общего смысла. Скажем, на уровне образной символики Бертолуччи ставит знак равенства между народной культурой, стихийно-социалистическим мировоззрением крестьян и социализмом. И одновременно объясняет эту стихийную революционность с получившей распространение фрейдистской позиции, отождествляющей стремление к свободе от социального гнета со свободой биологических и физиологических проявлений «естественного человека». Сам Бертолуччи объяснял противоречия своего фильма, затемненность некоторых метафор тем, что художник на Западе вынужден существовать в условиях «капиталистического окружения», что не может не отражаться на цельности его идеологической позиции: «Хозяин мертв, так провозгласила революция в России, но в Италии хозяин еще жив (…). Моя внутренняя диалектика — это противостояние Альфредо и Ольмо, то есть противостояние двух классов. Мы, западные кинематографисты, живем в атмосфере глубочайших противоречий. И я хотел выйти на них лицом к лицу, понять и, может быть, суметь разрешить их хотя бы частично».
В следующих двух картинах этого жанра — «Отец — хозяин» В. и П. Тавиани и «Дерево для башмаков» Э. Ольми тема народной революции звучит гораздо менее откровенно политически, оказывается гораздо глубже зашифрована в стихию «естественной» народной жизни, взятой вне противостояния Альфредо и Ольмо, то есть вне противостояния хозяев и крестьян, еще не давших миру своего героя. В трактовке «естественного» существования народа Бертолуччи исходит из его «врожденной», органичной революционности. В «Отце — хозяине» Тавиани зафиксирован начальный этап пробуждения революционного сознания, не только не заданного крестьянским происхождением, но с трудом выламывающегося из косности патриархального крестьянского бытия. А в «Дереве для башмаков» Ольми констатирует факты крестьянской жизни в еще более чистом виде «естественной» жизни на природе. Ольми как бы развертывает то общее определение крестьянской стихии, среды, из которой в «XX веке» выходит Ольмо Далько, но повседневные подробности жизни которой остаются в фильме Бертолуччи за скобками повествования.
Если Бертолуччи берет самые «вершки», то есть как бы революционную стихию в действии, то Ольми, напротив, описывает мирное, повседневное бытие крестьян, в котором и происходит настаивание своеобразной крестьянской психологин, культуры, мировоззрения. Идея антитезности крестьянской жизни по отношению к жизни «хозяев» и, шире, по отношению к жизни «официальной» рассматривается здесь в начальной стадии, на уровне бытия и народной этики, имеет не столько политический, сколько нравственный смысл.
Кадр за кадром, почти с документальной достоверностью режиссер фиксирует мельчайшие детали и подробности быта бергамасских крестьян в конце XIX века. Повествование не имеет четкой фабулы, сюжет складывается из отдельных, достаточно случайных эпизодов жизни четырех крестьянских семей. Связующей нитью, проходящей лейтмотивом через все повествование, становится свадьба Маддалены и Стефано как главное его событие, кульминационный этап в круговороте природы и в жизни человека от рождения до смерти.
Ольми ведет свой рассказ с эпической замедленностью, приближенной к реальному течению времени. Изображение строится на средних и общих планах, так что фигуры людей органично сливаются с пейзажем — естественной средой их обитания. Эта жизнь на фоне, вернее внутри величественного пейзажа Ломбардии, под торжественную, как бы льющуюся с небес музыку Баха есть концентрированное в себе самом крестьянское бытие, пантеистически слитое с природой. Некоторые итальянские критики обвиняли Ольми п идеализации патриархальной крестьянской жизни, другие— в том, что он не сумел показать настоящую социально-историческую реальность итальянской деревни, что его «аркаднческий» и «мифологизированный» крестьянский мирок не отражал истинную картину Ломбардии конца XIX века, когда она была охвачена волнениями и крестьянскими бунтами.
Но дело в том, что, так же как другие режиссеры «крестьянских фильмов», Ольми создавал не столько историческую картину из жизни бергамасских крестьян, сколько поэтнко-метафорическую проекцию истории на современность. И хотя момент идеализации в его фильме несомненно присутствует, но не для того, чтобы затушевать противоречия — отсталость и патриархальность крестьянской жизни, двойственную социальную природу крестьянства.
Ольми, по его собственным словам, интересовал только один аспект крестьянской жизни — повседневное бытие крестьян, во многом независимое от государственной жизни. Крестьяне всегда в большей степени, чем горожане, жили по своему «календарю», по своим законам. Эта относительная оторванность от «метрополии» не только помогла сохранить иной уклад жизни, иную этику и культуру, но и свободолюбивый характер итальянских крестьян, предки которых с оружием в руках отстаивали независимость вольных когда-то общин.
В одной из новелл фильма отец Минека, мальчика, который сломал свои сабо и не можег из-за этого ходить в школу, срубает хозяйское дерево, чтобы сделать сыну башмаки. Этот, казалось бы, незначительный эпизод приобретает в фильме не только огромное смысловое значение, так как отождествляется с нарушением векового табу частной собственности.
Поступок Баттисти не простая кража, но вынужденный и закономерный протест против несправедливости: крестьяне такие, какими их изображает Ольми, скорее решатся на бунт, чем на кражу. Однако этот шаг Баттисти свидетельствует лишь о начальном этапе пробуждения протестующего крестьянского сознания, уже хотя бы потому, что изгнание с фермы, то есть изгнание «из рая» за свой проступок, он воспринимает безропотно, как должное.
Иной аспект в развитии этой темы представлен в фильме П. и В. Тавиани «Отец — хозяин», в котором режиссеры показали уже пробуждение крестьянского сознания, сознательный бунт против навязанных условий существования. На этот раз место действия — Сардиния, знаменитая своей экзотической красотой и патриархальной отсталостью.
Но так же как у Ольми Ломбардия, Сардиния у Тавиани не только и не столько реальное место, сколько символ — «Тавиания», то есть повод для смысловых ребусов и игры ума в духе «брехтоьского кино». Это Сардиния, увиденная сквозь сетку особой идеологической и художественно-образной интерпретации. Так же как у Ольми, место действия фильма оторвано от метрополии, но здесь удаленность пространства приобретает совсем иной, во всяком случае не однозначный смысл. У братьев Тавиани скрупулезное воссоздание пейзажей и атмосферы Сардинии служит иным целям: в их фильме оторванность и замкнутость крестьянского мира отнюдь не идиллическая, но дикая, грубая, страшная.
Здесь удаленность от метрополии не рассматривается как позитивный фактор. Напротив, мир, существующий на окраине системы, отражает худшие ее черты в своем провинциальном, окраинном преломлении, когда эсплуатация осуществляется в еще более варварских и безобразных формах власти отца-хозяина. Власть отца-хозяина — это эксплуатация и несправедливость в квадрате, так как имеет не только социально-экономическое основание, но и родовое, патриархальное.
Изолированность крестьянского мира здесь еще более абсолютная, доведенная до символа,— небольшое пастбище Баддеврустана, своего рода место заключения ieроя, куда он отправлен отцом пасти овец. Здесь он проводит детство и отрочество, ни разу не спустившись вниз, в деревню, не видя людей, не зная грамоты, разучившийся говорить, одним словом, вне общества, вне истории, низведенный (а не возведенный, как у Ольми) до уровня «естественного человека», почти дикаря.
Таков смысл символики, заключенный в тишине и изоляции Баддеврустана: его безмолвие отождествляется с бессловесностью, отсталостью, покорностью, эксплуатацией. История пастуха, который, вырвавшись из-под власти отца-хозяина, казалось бы, раз и навсегда решившего его судьбу, поступил в университет, стал ученым-лингвистом, написал книгу о своей жизни, почти фантастичная, но имевшая место в действительности. Все это произошло с реальным Гавино Ледда, по книге которого снят фильм. По словам режиссеров, они лишь усилили готовый социально-политический смысл этой истории «метафорой классовой борьбы на уровне проблемы культуры в классовом обществе». Речь, слово, право на обобщение, которое обретает герой, вырвавшись из тишины и безлюдья Баддеврустана, по замыслу авторов, тождественны революции, пробуждению народного сознания и созданию демократической культуры, антитезной по отношению к культуре отцов.
«От молчания к слову, от биологического человека к историческому и социальному»— так определили смысл этой притчи сами авторы. В последнее время в тематике «крестьянских фильмов» начинает меняться ракурс. Если в первых картинах «жанра» ставились такие проблемы, как «крестьянство и революция», то теперь эта проблема получает новый дополнительный аспект — «народ и интеллигенция». Так, главное содержание картины Ф. Рози «Христос остановился в Эболи», снятой в 1980 году по одноименному роману К. Леви и так же вписывающейся в жанр «крестьянских фильмов», составляет отношение «народ и интеллигенция».
Герой фильма — врач, писатель, художник, сосланный накануне второй мировой войны за свои антифашистские убеждения в Луканию, сталкивается там с жизнью крестьян, о которой он, городской житель, раньше имел лишь самые смутные представления. И неожиданно для себя он открывает, что крестьяне — его единомышленники, стихийно протестующие против того же, что так ненавистно и ему. Между ним и крестьянами устанавливаются отношения взаимопомощи и поддержки: он, как новый миссионер, приносит в этот мир, до которого, как это следует из названия, не дошел Христос, культуру и цивилизацию.
Но и сам обретает среди них новые силы для борьбы, находит темы и героев для своих картин, переживает чувство единства со своим народом. И все же настоящей, духовной близости между ними пока не возникает. В одном из последних «крестьянских фильмов», в картине К. Лидзани «Фонтамара» намечается еще один поворот темы «народ и интеллигенция». Здесь уже не интеллигент идет в народ, что более привычно для итальянских картин, а крестьянин из отдаленного горного селения, «естественный человек», дитя природы, вожак и бунтарь у себя в деревне, приходит в город не только в поисках работы, но и в поисках смысла жизни, справедливости, в чем, возможно, он и сам не отдает себе отчета. Случайно оказавшись во время облавы рядом с революционером — «одиноким неизвестным», он берет на себя его вину. Конечно, отчасти он делает это как сильный, защищающий слабого, и даже с некоторым куражом, дразня полицейских.
И в то же время, еще не успев ничего понять, еще ни в чем не убежденный, он вполне сознательно жертвует собой ради революции, просто поверив в нее: на осознание ситуации у него нет времени. И поступок Берардо не проходит даром. «Одинокий неизвестный», спасенный Берардо ценой собственной жизни, переправляет фонтамарцам типографский станок, и они получают возможность поведать о себе и своих проблемах всему миру. По какому из этих путей пойдет развитие «крестьянского фильма» и будет ли он развиваться, пока сказать трудно.
Но уже и сейчас можно с уверенностью утверждать, что опыт поисков положительного идеала не пройдет даром для итальянского кино. Ситуация в итальянском кинематографе достаточно сложная, дает немало поводов для горечи и сожалений, что, например, и продемонстрировал нам Э. Скола в фильме «Терраса»Однако есть в этой картине не выраженная конкретно, напрямую, но каким-то образом растворенная в ней надежда. Есть она и в «крестьянских фильмах», но на этот раз более конкретная, в перспективе будущей народной революции.
Правда, пока, как мы видели, авторам «крестьянских фильмов» не удалось выстроить эту перспективу достаточно убедительно. Позиция большинства из них очень противоречива и далека от реалистического, подлинно исторического понимания этой проблемы. Но сама по себе такая-постановка вопроса чрезвычайно знаменательна, не говоря уже о том, что почти уникальна для западных художников. И пожалуй, сегодня итальянскому кино сильнее, чем когда-либо прежде, нужна эта надежда, та точка опоры, которая в тяжелейшей кризисной ситуации поможет итальянским авторам сохранить верность традициям национального демократического кинематографа.
А. Алова, О. Боброва


 12.04.2019
12.04.2019  admin
admin
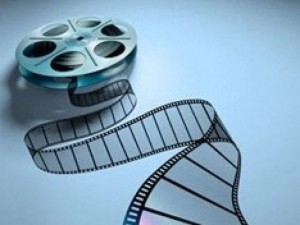
 Рубрика:
Рубрика:  Метки:
Метки: 


