Изнеженность характера вырастает из преобладания чувствительности над волей и проявляется у тех, кому даже в серьезнейшем положении недостает стойкости переносить страдание и усталость. Нам встречаются люди, которые и пальцем не пошевельнут, чтобы спастись от гибели, и не откажутся ради ближнего даже от ничтожнейшей прихоти.
Они ни за что на свете не могут перестать думать о себе. Никто не поднимает большего шума, когда наступает пора подводить итоги; никто так громко не сожалеет о причиненных ими бедствиях; но покуда время не подошло, они ничего не чувствуют, им ни до чего нет дела. Они живут в настоящем, ими движут сиюминутные побуждения (каковы бы они ни были) — и за этими пределами вселенная для них ничего не значит. Самая незамысловатая игрушка для них важнее, чем владычество над целым миром; они не откажутся ни от одного своего желания — не откажутся, что бы им ни предлагали, какие бы причины ни выдвигали. Просить таких людей хотя бы на минутку отложить свои развлечения и приготовиться к важному и серьезному труду так же бесполезно, как просить паутину не резвиться в ленивом летнем воздухе или мотылька не играть с обжигающим его пламенем.
Они так привыкли к продуманной смене приятных впечатлений, что и самый короткий перерыв оказывается для них нестерпимым лишением, как если бы их оторвали от привычного образа жизни; они настолько приучены к довольству и безделью, что малейшее усилие превращается для них в один из подвигов Геракла, во что-то совершенно немыслимое и вызывающее содрогание. Они почивают на ложе из розовых лепестков и устремляют свои прозрачные крылышки к солнцу и летнему ливню; им противна сама мысль о том, чтобы опустить нежные ножки на землю или, еще того хуже, встретиться лицом к лицу с колючками и цепкими зарослями реального мира. Жизнь для них — «волны амбры среди полей Элизия»; им неохота ловить рыбу в мутной воде повседневности.
Обыкновенное существование представляется им досадным, суетным, противоестественньгм. Что им до испытаний и превратностей судьбы? Отказываясь добровольно принять страдания, труд, опасность, смерть, они взвинчивают каждое свое ощущение до высшей степени сладострастной утонченности, а каждое движение превращают в изящный и элегантный жест. Они живут в бесконечном роскошном сне или «умирают от ароматных мук, когда для мозга запах роз — недуг».
Вокруг них должны витать волшебные звуки, им навстречу должны всюду попадаться улыбающиеся лица; они должны мягко ступать по ярким коврам или гладко подстриженным лужайкам; книги, искусство, шутки, смех заполняют все мысли и часы. Какое отношение они могут иметь к тяжкому труду, борьбе, бедности, болезням и мукам, обычно составляющим удел человечества? Все это непереносимо для них даже в воображении, разрушает привычный для них очарованный мир. Из-за этого на чистой, гладкой поверхности их существования возникают морщинки.
С раздражением и досадой они восклицают: «Ах, оставьте меня в покое!» Как они собираются «коротать день зимний, хмурый, когда декабрьский ветер за стеной завоет злобно», как намерены «отразить удары этой лютой непогоды»? Да они об этом и не помышляют: такое им просто в голову не приходит. Они закрывают ставни, задергивают шторы и приветствуют (или глушат) свист приближающейся бури. Уж они-то «не думают о завтрашнем дне» Они не предвидят ничего дурного. Пусть приходит, когда хочет, они не побегут ему навстречу. Более того, они и шагу не ступят, дабы предупредить зло, и никому не позволят этим заниматься. Даже упоминать о таких вещах неприлично, само предположение несносно и недопустимо.
Одна мысль о неприятностях, предосторожностях, переговорах, необходимых для предотвращения нежелательных последствий, гнетет их смертельно, чрезмерно утомляет их расслабленное воображение. В отличие от господина Бернардина из пьесы «Мера за меру», который не хотел встать, когда его собирались повесить, они не тронутся с места, чтобы спастись от повешения. Они целиком погружены в себя, но все их себялюбие сосредоточено в текущем мгновении. Они настолько изощрили свое утонченное пристрастие к удовольствиям, что все их существование, каждый миг его должны состоять из этих изысканных наслаждений — или они всё с равнодушием и презрением отвергнут.
Благополучие зиждется для них на удовлетворении сиюминутного желания. Их чувственность, тщеславие, бездумная жизнерадостность доведены потворством до того, что они страдают от самого незначительного сокращения привычной порции возбуждения и охотно купят мимолетное счастье ближайших пяти минут ценою независимости и благосостояния грядущих лет. Они во всем хотят настоять на своем, а если не выходит, то злятся и дуются, как избалованные дети. Они хотят немедленно завладеть всем, на что положили глаз или что решили заполучить. Они, может быть, когда-нибудь и заплатят за это, но сейчас речь о другом. Вопреки судьбе они выхватывают себе радость и считают настоящее священным, нерушимым, неподвластным неумолимому, жестокосердому, скупому, неблагодарному хозяину — будущему. Их девиз — теперь или никогда. Они до безумия преданы теперешнему пристрастию и развлечению. Их так же мало беспокоит, что будет с ними через неделю, как то, что случится через тысячу лет. Они откладывают размышления на потом и смеются над ними в своей легкомысленной ветрености, будто слушают потешный рассказ. Их жизнь — «темница неведенья.
Их существование эфемерно, их мысли несутся словно на крылышках мошкары, их личность гибнет вместе с капризами, страстями и безумствами пролетевшего часа. Только чудо может вывести таких людей из летаргического сна; естественным путем пробуждение не произойдет, и ожидать его нельзя. Удивительное восклицание Поупа:
Не ведая грядущего, мы сами
Живем, подвигнутые небесами… —
здесь едва ли применимо, в частности, когда речь идет о спасении от очевидного зла, каковое можно предотвратить, проявив хоть каплю осторожности или решительности. Но ничего не поделаешь! Как можно? Небольшое зло, далекая опасность таких людей не волнуют, а от близкой они в панике стремительно убегают. Чем отчаяннее их положение, тем меньше им охота действовать, а чем больше усилий требуется для спасения, тем менее они на такое усилие способны. Сперва они ничего не хотят предпринимать, а потом уже слишком поздно. Причины, настоятельно побуждающие их заглянуть в себя и начать исправляться, странным образом смешиваются со свойственным им нежеланием что-либо менять в себе. Получается почти что математическое доказательство. Беспечность, суетность, жажда удовольствий в таких случаях перевешивают.
Как вы победите эти страсти или излечите того, кто к ним склонен? Страхом перед жизненными тяготами, позором, страданием? Эти люди с неприязнью отворачиваются и от них, и от вас, посмей вы только указать на оборотную сторону недостатков. Вместо того чтобы предотвратить критическое положение, сделав над собой мужественное усилие, проявив самоограничение, наши слабохарактерные неженки, напротив, ускоряют его наступление сознательным решением потворствовать недугу и не вооружаются против него стойкостью, нужной, чтобы перенести или предупредить его последствия, а умышленно закрывают глаза при его приближении. Разве вы подвигнете вялого и неторопливого лодыря на докучное, но необходимое усилие, если покажете, сколько всего ему надо сделать?
От ваших просьб и уговоров он только еще больше уйдет в себя. Если он человек жизнерадостного склада, то, может, и попытается как-то изменить жизнь, но удовлетворится первыми признаками улучшения и станет вновь предаваться безделью. Если же он робок и нерешителен, то безнадежность этого начинания отпугнет его, и он остановится в отчаянии. Разве можно спасти тщеславного человека от гибели, изобразив порицание и насмешки, неизбежно ожидающие его, коль скоро он не изменится?
Да он смеется над фантастичностью ваших зловещих предсказаний, и чем быстрее они сбываются, тем настойчивее стремится отделаться от оскорбительной уверенности, тем сильнее цепляется за лесть и тем скорее устремляется навстречу гибели. Он не пойдет на смелую и решительную попытку спасти свою репутацию, ибо это подразумевало бы, что ее в принципе можно замарать или подорвать.
Как только ему приходит в голову очередной бесцельный замысел, он сразу же приписывает себе честь его осуществления и с удовольствием носит незаслуженные лавры, хотя деятельность его вообще мало кем замечена. Надежда на успех снимает с его души опасения, и он пользуется создавшейся передышкой, только чтобы опять поддаться своей главной слабости. Разве можете вы оторвать человека от чувственных излишеств, толкуя об их неизбежных последствиях? Что может быть противнее удовольствию, чем боль? Человек, привыкший потакать своим слабостям, восстает против страдания, а когда оно настигает, отбрасывает его от себя прочь как бессмысленную аномалию, как несправедливость. Когда говорят, что человеку свойствен-
но страдать, что он обречен на страдание, ум отказывается видеть здесь простую угрозу. Если предсказание мгновенно не исполняется, мы смеемся над пророком зла; а ежели оно оправдывается, то ненавидим нашего советчика сообразно размеру бедствия, еще сильнее лелеем свои пороки и тем больше их ценим, чем дороже они нам обходятся. Разумный совет воспринимаем как дерзкое оскорбление, а тех, кто предупреждает о грозящем нам бедствии, рассматриваем как его виновников. Вместе с восторженным поэтом мы восклицаем:
Хоть и умрет в печали он —
Пусть грезой тешится дотоле!
Кто ж не лелеял сладкий сон
В преддверье горечи и боли?
О ты, что одарил меня речью, когда я был нем, ты, благодаря кому мне не пришлось всю жизнь ползать на брюхе, словно пресмыкающемуся, и довелось иной раз поднять голову и ступать по эмпиреям, восстань из своего дневного сна! Отряхни тягучую медовую росу с души своей, уже не убаюканной чашей Цирцеи! Пусть уши твои упиваются твоими собственными мыслями! Явись в возвещенном нам образе своем! Потряси столпы прогнившего мира!
Не позволяй звонкому слову твоему раствориться в воздухе! Начертай его на мраморе! Провозгласи грядущему веку героические истины! Восстань и разбуди эхо времени! При всем богатстве своей учености не окажись скрягой, что унесет сокровища знаний с собой в могилу, оставив переживших его без благословения! Пусть закат твой будет радостен и великолепен, каким был восход! Пошли нам широкий, золотистый, цвета подсолнуха, луч света, а прежде чем вознесешься на породившие тебя небеса, покажи нам лестницу, по которой ты под предводительством истины и фантазии взошел к вершинам философии, — дабы мы смогли ухватиться за твою радужную мантию и вновь читать слова твои, дорогие нашей памяти и еще более дорогие славе!
Существует еще одна разновидность описываемого типа характера — люди медлительные и сосредоточенные на пустяках. Такие на каждом шагу создают препятствия и не хотят или не могут с ними справиться. Они и паутину обмести не в состоянии и останавливаются из-за препятствий величиной с комариное крылышко. В них глупости, пожалуй, больше, чем изнеженности. Свойственная им нехватка энергии и решимости, в отличие от лиц, изображенных ранее, происходит не из преобладания других чувств и побудительных мотивов, а из привычного и неистребимого недостатка мужества и воли. Для таких людей характерно особенное непостоянство, из-за чего почти невозможно подвигнуть их на достижение какой-либо цели или дать им решающий momentum* в каком бы то ни было направлении или области. Они будто отворачиваются от всякого движения вперед, от всякого энергичного и мужественного действия. Им чужда целеустремленность, они боятся слишком быстро достичь цели.
Они не проявят никакого упорства или воодушевления ни в чем — ни ради вас, ни ради самих себя. Если вы попытаетесь наметить для них некую линию поведения или поручите им выполнить определенную задачу, они непременно придумают какие-нибудь пустые отговорки или мнимые препятствия, а слабохарактерность удержит их от решительного поступка в нужный момент. Они могут быть по природе своей услужливы, добродушны, дружелюбны, благородны, но толку от них никому нет.
Они взвалят на себя вдвое больше забот, чем вам нужно, однако не воплотят ваш замысел, а приведут его к краху; минуя несуществующие препятствия, они упускают из виду суть дела. Но даже оставаясь послушными вашей воле, они выбирают неудобные вам способ и время действия. Такая робость сродни предательству, ибо постоянное ожидание несчастья или позора позволяет бессмысленным опасениям сбываться. Для таких людей какие-нибудь пустяки значат больше, чем нечто действительно важное; мелкое неудобство перевешивает серьезное и необходимое преимущество; сильнейшие пристрастия у подобных людей вырастают из самых ничтожных причин.
Они так долго колеблются, каким образом лучше всего начать какое-нибудь дело, что упускают подходящий случай, а вопрос о том, как подойти к делу, для них важнее, чем его осуществление. Они вычеркнут целый абзац, лишь бы не оставить ни одного предосудительного слова, и гораздо больше, чем красота и правдивость того или иного образа, их волнует восприятие его критиками. Они переделывают написанное не потому, что оно неверно, но лишь потому, что может оказаться неверным; трепеща от страха перед воображаемыми ошибками, они совершают настоящие. При этом забавно, что вся их осмотрительность и щепетильность ничуть не мешает им допускать серьезнейшие просчеты. Всевозможные вздорные опасения владеют ими настолько, что они теряют умение отличать истинные поводы для тревоги от вьгмьппленных и часто беспричинно наносят обиду либо неожиданной полушутливой дерзостью, либо самонадеянной верой в свое искусство избегать бестактностей. То же самое непонимание побудительных причин и близорукость, которые постоянно вовлекают их в переделки, мешают им из них выбраться. Такие люди, нередко оригинальные и впечатлительные, постоянно не в ладу и сами с собой, и с окружающими, ничего не делают сами и не дают другим и, независимо от успеха или неудачи, пребывают в вечном беспокойстве и неуверенности. Они лишают собственные мысли свежести и новизны, прибегая к противоречивым советам; и покуда они поглощены обстоятельной подготовкой к делу с помощью друзей, вы уже двадцать раз могли бы все устроить сами.
Ничто не заслуживает большего уважения, чем мужественная твердость и решительность. Мне нравятся люди, которые знают, чего хотят, и упорно добиваются желаемого, которые сразу видят, как в данных обстоятельствах следует поступить, и ровно так и поступают. Они не наводят тень на ясный день разговорами о трудностях или оправданиями, а переходят прямо к делу и кратчайшим, оптимальным путем достигают цели, извлекая пользу для себя и других. Если они могут оказать вам услугу, то обязательно окажут; если нет, то так и заявят напрямик, не томя вас напрасными ожиданиями и не налагая на вас мнимых обязательств. Обратиться к такому человеку во имя похвального начинания — не то что помешивать какую-нибудь «размазню». В нем определенно есть сущностное начало — правильное, дельное. Он не мечется всю жизнь, пытаясь решить, кем ему быть: либералом или консерватором, другом или недругом, негодяем или дураком; он думает, что жизнь коротка, и в ней нет времени для дурацких шуток, нарушения принципов или игры с чужими чувствами. Если он пишет вам рекомендацию, то не прибавляет оскорбительных оговорок; он не ищет у вас недостатков из страха, что другие найдут их раньше, и не предвосхищает возражений из опасения, что его заподозрят в ребяческой пристрастности. Его цель — услужить вам, а не сыграть на руку вашим врагам.
Холодной середины друг не знает:
То гневом, то любовью он пылает.
Мне было бы жаль не оправдать чьих-то ожиданий на мой счет, но я не желал бы, чтобы люди отказывались от своей точки зрения, лишь бы не услышать ее подтверждения устами злобы или глупости. Тот, кто вас хорошо знает и к вам расположен, должен задавать тон в оценке вашей личности, а не перенимать чужие оценки, и может варьировать свое отношение к вам в зависимости от конкретной ситуации. Есть люди, о которых говорят, что для них обязательство — причина ничего не делать, и есть другие, которые неизменно поступают обратно тому, что от них ожидается. Первых следует назвать непрактичными, а последних своенравными.
Изнеженным характерам и манерам противостоят грубые и жестокие. Первые ласковы и спокойны, последние в силу естественных склонностей или просто напоказ тянутся ко всему вульгарному, буйному, жесткому и отталкивающему в тоне, манере говорить, форме обращения, в жестах и поведении. Так, одни всю жизнь копируют шепелявый выговор светских дам и манерно-медлительную речь истых джентльменов, а другие наслаждаются, присваивая себе неуклюжий жаргон, замашки и словечки каких-нибудь неотесанных мужланов да крикливых рыночных торговок. Последние движимы склонностью ко всему отвратительному, яростным и безудержным стремлением нарушать приличия и оскорблять чужие чувства, ибо приходят от этого в волнение и возбуждение. Они так же свободно сообщают горькую правду, негхршггные соображения и нежелательные факты, как другие расточают любезности, комплименты и слова, неискренние и бесцветные.
По нашим наблюдениям, изнеженности характера в какой-то степени соответствует изнеженность стиля. Авторы такого пошиба неутомимо правят все, что сочиняют, переделывают ничего не значащие фразы и до смерти мучают типографских посыльных. Под изнеженным стилем я подразумеваю стиль цветистый, сверхутонченный, сладкий до оскомины и однообразный до скуки.
Так пишут те, кого Драйден называет «спокойными мирными писателями»15. Они хотят только доставить читателю удовольствие и потому никогда не оскорбляют правдивостью и не беспокоят своеобразием. Каждая мысль должна быть прекрасна per se*, а всякое выражение изящно. Они дорожат не вульгаризмами, но общими местами и раскрашивают малозначащие явления во все цвета радуги. Они не затрудняют себя размышлениями — те потревожили бы ленивого читателя; не умеют облекать банальную мысль в обычные слова — это оскорбило бы их собственное тщеславие.
Они не жалеют мишуры, ведь она ничего не стоит. Их труды следовало бы печатать (кстати, как правило, именно так и делают) на лощеной бумаге, с виньетками на полях. Под это определение подходит школа Делла Круска’6, но она близка к концу. Лорд Байрон — избалованный, аристократический писатель, но он не изнежен — в противном случае на его сочинениях значилось бы не только имя издателя. Я все время думаю о том, что стихам мистера Китса недостает мужественной энергии В них необычайно много красоты, нежности, изящества, но мало силы и содержательности.
В его «Эндимионе» прелестно описаны иллюзии юного воображения, склонность к фантазиям; перед нами цветы, облака, радуга, лунное сияние, сладостные звуки и ароматы, нимфы и дриады, но все невесомо, неосязаемо, неуловимо, лишено твердости духа и отчетливости форм, свойственных античности. Он изображал собственные мысли и характер, но не переносился в легендарное героическое прошлое. Ему не хватало действия, энергии и воображения, но он был наделен изумительным художественным вкусом. Все в нем мягко, податливо, не ощущаются крепкий костяк и мышцы. Мы видим в нем юность, а не зрелость поэзии. Его гений «дышал ликованьем вешним». «Подобно сыну Майи, он стоял, крылами потрясая», распространяя благоухание. Он весь был напоен весной, чужд жару лета, изобилию осени, а о зиме узнал, видимо, только когда ощутил леденящую руку смерти.
У. Хэзлитт


 24.11.2013
24.11.2013  admin
admin
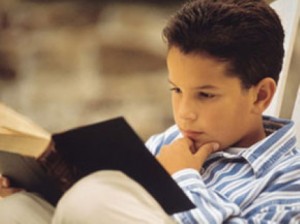
 Рубрика:
Рубрика:  Метки:
Метки: 


