Успокоитель, прозванный тщеславьем. Спенсер
Одна дама сетовала в разговоре с моим другом на доверчивых людей, клюющих на рекламу чудодейственных лекарств, и недоумевала, как такое хоть кого-то может обмануть, — вот она, например, раз в жизни купила за полгинеи бутылку «Эликсира жизни» доктора, и это ей ничуть не помогло. Этот курьезный случай весьма наглядно показывает, почему доктору выгодно рекламировать свои товары во всех газетах королевства. Он, без сомнения, был бы вполне удовлетворен, если бы каждый щепетильный и скептически настроенный инвалид во владениях его величества хоть один раз испробовал тот эликсир — пусть даже с целью доказать всю нелепость претензий доктора. Мы нарочито смеемся над глупостью тех, кто верит в рекламируемые снадобья «от всех болезней», но всегда хотим лично проверить их действенность.
В душе человеческой очень сильно стремление тешить себя тайными надеждами, лелеять уверенность в том, что мы уж точно составляем счастливое исключение, хотя рассудок, может быть, говорит нам о примитивности самообмана; к тому же слова, выстроенные в правильные предложения и напечатанные крупными буквами, обладают удивительной силой убеждения — пока нет явных доказательств их лживости. Люди невежественные и праздные верят прочитанному, подобно шотландским философам, использующим свидетельства своих органов чувств для доказательства существования материального мира и для других ученых теорий.
В обоих случаях хватает только зрительного впечатления. В той же степени, в какой лицемерие считается высшей данью добродетели, искусство лгать есть сильнейшее признание могущества истины. Нам трудно поверить что перед нами ложь, даже когда мы это знаем. Откровенное расхваливание, даже когда оно названо рекламой на страницах газеты «Таймс», требует известного внимания и уважения к возвещаемым достоинствам, хотя мы и думаем, что человек, претендующий на благосклонное внимание и поддержку публики, придумал (быть может) не самый оригинальный способ представить эти достоинства миру.
Все-таки что-то в этом, пожалуй, есть, и даже при возмутительном неправдоподобии и крикливости реклама поражает и вызывает желание разузнать побольше, ибо мы думаем, что у автора вряд ли хватило бы наглости писать такие бесстыдные нелепости без малейшего на то основания. Такова сила соотношения между словами, с одной стороны, и вещами и явлениями в нашем сознании — с другой, — наше доверие чаще оказывается оправдано событиями, чем обмануто. Если бы половина всего, что нам доводится слышать, была чистой выдумкой, мы бы утратили привычку без размышлений верить в смысл воспринимаемых звуков — так же как, повстречавшись не раз с фальшивыми монетами, начинаем подозрительно рассматривать и настоящие.
Наше безоговорочное согласие с тем, что мы слышим, доказывает, что в отношениях между людьми, взятых в их совокупности, больше честности и добросовестности, нежели хитрости и обмана. «Возвысить и удивить» — вот где великое искусство дутой рекламы и шарлатанства; создать в сознании живой преувеличенный образ, изумиться, прежде чем успеем опомниться, ибо, попав в ловушку, мы уже до конца не захотим пойти на попятный, — за всем этим стоит тайное желание утвердить свою правоту и решимость подвергнуть ее проверке. Опишите какую-нибудь картину словами «величественная, впечатляющая, возвышенная» — они вызывают в нашем сознании такие же представления, как трубные звуки, которые можно заглушить, только если мы увидим ту самую картину — и то при условии, что будем смотреть на нее без помощи каталога, написанного самим художником. Вряд ли бы он сам сказал такие слова о своей картине, если бы они уже не были широко приняты; и он просто повторяет их, исходя из этого мнимого допущения, пока с ними не согласится весь мир*.
Так репутация вращается в порочном кругу, а достоинства хромают ей вслед, уязвленные и пристыженные собственной незначительностью. Говорят, что проверкой славы или известности служит число повторений вашего имени другими людьми или количество упоминаний его в течение года. Коли так, то каждый держит свою репутацию в собственных руках и с помощью навязчивой рекламы и прессы вполне может опередить глас потомства и поразить непритязательный слух современников. Имя, которое у всех на слуху, да еще и в сопровождении хвалебных эпитетов, заставляет вздрогнуть, как пистолетный выстрел прямо у вашего уха. Оно поневоле действует на воображение, хотя вы знаете, что на самом деле за ним ничего не стоит — vox et praeterea nihil*.
Поэтому, если одно и то же имя, написанное крупными буквами, бросается вам в глаза на каждом углу, то вы невольно подумаете: владелец его, должно быть, — великий человек, раз занимает в городе так много места. Расчет в этих случаях делается прежде всего на то, чтобы поразить слух и зрение, но затем это первое впечатление проникает в глубины сознания. Есть, правда, и такие, кто обнародует собственный позор и превращает свое имя в надоевшую всем притчу во языцех, ибо гоняется за любой, даже дурной славой. Шарлатан может втихаря добиться, чтобы его именовали «доктор» или «сэр»; и пусть все смеются ему в лицо, внакладе он не остается.
Пароль со своим барабаном может служить прообразом многих современных авантюристов, придворных искателей незаслуженных лавров и беззастенчивых претендентов на несправедливые почести. Из всех видов зазывной рекламы реклама лотерей наиболее оригинальна и невинна. Собрание таких объявлений составило бы забавный vade mecum**. Они и не похожи друг на друга и похожи: бесконечной хитростью с самого начала убаюкивают подозрительность читателя, затем незаметно вкрадываются в доверие, а в заключение — верным ударом по главной страсти все наличные деньги, вопреки твердому решению, извлекаются из карманов с помощью всем известного, набившего оскомину, тысячу раз повторенного фокуса — «Все выигрывают, проигравших нет»8. Обман здесь вполне очевиден, и тем не менее трудно найти более сильное доказательство, что кое-кто умеет завораживать умы сугубо зрительными впечатлениями. Я знаком с джентльменом, который составил значительное состояние (у него свой выезд), печатая лотерейные афиши и плакаты огромной величины.
К другому моему приятелю (весьма способному человеку) обратились с просьбой регулярно за неплохие деньги сочинять рекламу лотереи для крупного игорного дома в Сити; когда ему вернули целый ворох предложенных образцов — за чрезмерную сдержанность и сжатость слога, он довольно забавно пожаловался, что скромные таланты не имеют успеха. Даже лорда Байрона, по его собственным словам, обвиняли в сочинении рекламы для лотерей. Известно немало способов выставиться перед публикой и сохранять свое имя у всех на слуху. Газеты, фонарные столбы, стены пустых домов, оконные ставни, обложки журналов и обозрений открыты для всех. Я слышал недавно об одном знаменитом литераторе, который сидел у себя в кабинете и писал самому себе укоризненные письма по поводу крупных недостатков только что опубликованной им программы образования, залежавшейся в книжных лавках. А другой притворился мертвым, чтобы узнать, что напишут о нем в газетах, и тем самым вызвать сенсацию.
Кричащий памфлет выдержал тридцать пять изданий и таким образом обеспечил писателю «бессмертья срок» среди политических шарлатанов, ибо каждую очередную сотню проданных экземпляров сопровождал новый титульный лист. Какая гадость! Сейчас распространено ошибочное представление (я опровергну его здесь), будто в ведущих журналах статьи о сочинителях печатаются за деньги. Это отнюдь не так. Благоприятный отзыв о писателе, актрисе и так далее может появиться из интереса или желания услужить другу, но это делается исключительно по любви, а не за деньги* Когда мне в прошлом доводилось иметь дело с такого рода критическими приговорами, я обычно выходил из игры, если требовалось нежное обращение с дебютантом, имевшим связи при дворе. В отношении остальных, отличавшихся более крепким сложением, я мог поступать по своему усмотрению.
Иногда я, конечно, пускался во всю прыть. Бедняга Пэрри! Как горько он сетовал, что из-за моих бешеных нападок на лордов и шотландцев ему некуда сходить пообедать! В эти минуты его лицо принимало такое жалостное выражение, как будто он боялся, что вскоре во всем мире у него не останется ни единого друга.
Как отчаянно мы спорили по поводу Кина и мисс Стивене, моих единственных любимцев среди актеров! Миссис Биллингтон вообразила, что из мисс Стивене никогда не выйдет певица, а для Пэрри (как он мне признался) мукой всей жизни было привести двух людей к согласию хотя бы по одному вопросу. Никогда не забуду, как принес ему свою рецензию на первое выступление мисс Стивене в «Опере нищих». У меня особая причина помнить эту статью: после нее я, пожалуй, ни одной не написал с таким живым удовольствием.
Перед тем я гостил у своих друзей недалеко от Чертей, а на обратном пути остановился в гостинице в Кингстоне-на-Темзе, где заполучил либретто «Оперы нищих» и за одну ночь его прочитал. На следующий день я весело отправился в Лондон. Стояла поздняя осень, занималось прекрасное, солнечное утро. Напевая прелестную песенку «Весны возврат неведом нам», я обдумывал свою завтрашнюю критическую статью и изо всех сил старался воздать должное столь увлекательной теме. Я заранее гордился своей статьей. Тогда я только начинал робко переносить свои чувства на бумагу — словно бы переживал медовый месяц писательства. Однако вскоре после этого мои последние надежды на личное счастье и на свободу человечества померкли почти одновременно, и с тех пор я ни в чем не находил отрады. Сама любовь мне радость не несет
Но все было не так десять лет назад (десять коротких лет, — ах, как быстро бегут годы, уносящие нас от последних светлых мечтаний о счастье!), когда я бродил в твоих зеленых рощах, о Твикенам, и разглядывал (с восторженным наслаждением) пестрые картины жизни, написанные одним из твоих любимцев! После полудня я отнес рецензию на пьесу в редакцию «Морнинг кроникл» и пошел посмотреть на мисс Стивене в роли Полли. В те благословенные времена она только начинала играть эту роль, только-только появилась в «Мандане», где пела прелестную арию «Когда б любовь, тиран жестокий» (ее теперь никто не может так спеть!), а также впервые выступила в спектакле «Деревенская любовь», где действие открывалось появлением ее и мисс Мэтьюз среди декораций сада с кустами роз и жимолости, и «Надежда, желания мать» звенела то в одном, то в другом прелестном голосе.
О, если б слух мой еще мог хоть изредка на мгновение наполняться в мыслях и мечтах этими сладкими звуками, напоенными ароматом юности, здоровья и радости, я бы никогда не стал жаловаться на жизнь! Когда я вернулся после представления, Пэрри свойственным ему скрипучим голосом спросил участливо: «Ну, как она справилась?» — и, услышав мою высокую оценку, сказал, что обедал со своим другом, герцогом, что разговор коснулся этой темы, и ему кажется, что, по мнению герцога, исполнение оставляло желать лучшего, подлинный стиль sostenuto* не был выдержан как полагается, но раз я написал статью (он небрежно потряхивал моими разглагольствованиями об «Опере нищих»), может быть, все и сойдет! Я заметил, что старый плут при этом облизывается, воображая, что с помощью моей статьи уже «в глазах народа облекся золотым нарядом славы».
На другой день я с удовлетворением увидел, как мисс Стивене выходит из комнаты редактора, которого явилась поблагодарить за весьма лестный отзыв. Меня послали посмотреть первое выступление Кина в роли Шейлока, когда в партере было всего около ста человек, но после его мастерского, вдохновенного исполнения первого поразительного монолога «В такой-то день… назвали псом» и т. д. я понял, что это все пустое. Так и было сказано в «Кроникл», но Пэрри все время нападал на меня — как другие нападали на него, — твердя, что Кина хватит ненадолго. А я держался и говорил, что надолго, и пока что я прав. Кто-то имел глупость заявить, будто успех Кина создан в «Кроникл».
С разрешения читателей я хотел бы сказать, что ни одна газета не создает успех или провал актера. Писателя критики могут расхвалить и сделать заметной фигурой либо уничтожить — потому что его книгу прочли немногие. Художника можно переоценить или незаслуженно разбранить, потому что публика не очень привыкла смотреть и обсуждать картины. Но актера судят равные ему — зрители, и он торжествует или гибнет только благодаря своим достоинствам или недостаткам.. Критик способен задать тон или даже получить решающий голос, когда мнения публики расходятся, но он не более властен насильственно изменить это мнение в ту или иную сторону либо вынуть из-под него фундамент, на котором оно создается — здравый смысл и чувство, — чем сдвинуть с места Стоунхендж. У мистера Кина имелись, однако, физические изъяны, и он вызывал сильное предубеждение, поэтому либеральная и независимая пресса, пожалуй, в известной степени помогла ему добиться расположения публики. Да сохранит он его надолго, не утрачивая достоинства и твердости! Ковент-гарденские критики, а с ними и другие, в то время считали, что своей популярностью мистер Кин обязан только новизне, благодаря которой вошел в моду, что вызванные им страсти напоминают всеобщее безумие по поводу игры мастера Бетти и так же быстро прекратятся.
Это сравнение не выдерживает критики. Игра мастера Бетти изумляла и привлекала толпы народа только своей необычайностью для мальчика. Мистер Кин вступил на сцену взрослым, и не было ни правил, ни законов природы, запрещающих другим актерам соревноваться в трагическом величии с Джоном Кемблом. К тому же игра мастера Бетти была явлением особенным и столь же прекрасным, сколь особенным. Я видел его в роли Дугласа, и он казался «веселым детищем стихий»; его движения отличались изяществом и гибкостью юности, а тихое эолово звучание его голоса — жалобной нежностью. Никогда не забуду, как он повторял строку из рассказа молодого Норвала о судьбе двух своих братьев:
По-моему, был счастлив тот, кто умер! Слова звучали словно пророчество. Может быть, зрители преувеличивали необыкновенность его исполнения. Мальчики в том возрасте часто играют замечательно и безусловно не лишены природного изящества, равно как чудесного голоса. Школьники Вестминстера составляют лучшую актерскую труппу, чем те, что играют в большинстве наших театров. К тому же я не вижу ничего трудного в роли, подобной роли Дугласа. Я и сам в школьные годы с должной выразительностью и чувством читал монолог по книге Энфилда и примерно в том же возрасте воспринял дикое очарование чувств, описанных в «Романе о лесе» миссис Радклиф, с такой же живостью, с какой бы воспринял его теперь. Однако неоднократные попытки повторить опыт с другими юными исполнителями до сих пор неизменно терпели неудачу*.
Вскоре после этого Колридж вернулся из Италии и однажды разразился длинной тирадой о том, что выступление Бетти — сплошной фарс, что за границей все поражены наивной доверчивостью англичан, всегда готовых попасться на крючок всяческих шарлатанов, и что там все недоумевают, как люди, хоть сколько-нибудь претендующие на здравый смысл, могут даже на мгновение предположить, будто мальчик способен исполнять роли взрослых мужчин, не имея ни малейшего представления об их познаниях, опыте и страстях.
Мы робко пытались возражать, но напрасно. Тогда заговорили о другом, и Колридж пустился в преувеличенных выражениях расхваливать одного многообещающего юношу, сына английского художника, с которым познакомился в Италии и много странствовал по Кампанье;36 его талант, уверял нас Колридж, вызвал в Риме всеобщее восхищение, ибо даже ранние его рисунки отличаются истинно рафаэлевскими изяществом и чистотой линий. В конце концов один из нас прервал бесконечный рассказ несколько раздраженным замечанием: «Ба, да вы буквально только что убеждали нас не верить свидетельству собственных глаз и ушей о способностях юного Бетти лишь потому, что у вас есть теория, отрицающая возможность появления скороспелых талантов. А теперь вдруг сами придумали чудо-мальчика, о котором кроме вас никто и знать не знает, юного художника, который, если верить вам, может соперничать с Рафаэлем!»
На самом же деле нам приятно восхищаться чем-то и заставлять других глазеть и изумляться, но мы хотим, чтобы открывателями чудесного были мы сами, чтобы кумир был создан и выставлен на обозрение нами; если другие открывают его до нас или присоединяются к общему хору, возносящему его до небес, тогда мы принимаемся доказывать, что они во власти примитивного заблуждения, и в хладнокровнейшей расправе с новоявленным кумиром демонстрируем свою мудрость и отсутствие предубеждений. Раздуваем ли мы очередной мыльный пузырь или давим его собственными руками — за нашей радостной доверчивостью или привередливым скептицизмом стоят только тщеславие и пустое стремление отличиться.
Одни всегда перенимают модные предрассудки, другие, напротив, притязают на полную самостоятельность взглядов во всех вопросах, где, как им кажется, им достанет ума вынести независимое суждение. В живописи, больше чем в какой бы то ни было другой области, извинительны приукрашивание и приглаживание, некоторое раздувание достоинств и известная доля шарлатанства, самореклама и просьба к другу замолвить словечко. Живопись — наука мистическая, требующая от преподавателя некоторой рисовки вдобавок к иронической серьезности. Причастный к живописи должен уметь соперничать с Каттерфельто, «у которого волосы становятся дыбом при виде собственных чудес и который творит чудеса ради куска хлеба», ибо если художник не справится с этим, он может остаться вовсе без хлеба.
Пусть как угодно, любым чудачеством привлекает к себе внимание, пусть даже, надев зеленые очки, скачет на рысистой лошади, лишь бы изо всех сил совершенствовал свое мастерство. Если «в жизни он стал воплощеньем актерства»3″, то пусть дураки глазеют — лишь бы получилось у него хоть что-нибудь толковое! Добрый багетных дел мастер, добрый мальчик на побегушках у наборщика, добрый расклейщик афиш, «делайте свое дело» без помех! Живопись похожа на пустой щит, и понадобится немало усилий герольдов, дабы расчертить его и разукрасить как полагается. Кладите краски погуще, не жалейте!
Кто может оценить достоинства человека, никому не известного, а как он может стать известен, если будет держаться на заднем плане?* В искусстве прославленное имя далеко не ведет: оно скользит по путям жизни и застывает, если нет ничего, что оживляло бы его и придавало ему новый блеск. Слава тут почти равна безвестности. Приходится долго ждать, прежде чем невежественная, равнодушная толпа разберет ваше имя под всем знакомым рисунком. Для верности потребуйте, чтобы фанфары протрубили ваше имя на всех углах, пусть оно, как ярлык, торчит у вас изо рта, повесьте себе на спину плакат, где оно будет значиться — иначе никому не будет до вас никакого дела либо вас очень скоро забудут.
Один знаменитый современный художник, чьим именем подписаны трогательнейшие образцы английского искусства, однажды пригласил к себе мастера по изготовлению рам, который, войдя к нему, с удивлением воскликнул: «Как, вы художник, сэр?» Живописец, в свою очередь поразившись, спросил: «Разве вы этого не знали? Неужели вы никогда не видали моей подписи под репродукциями?» Собеседник не мог припомнить такого случая. «Но вы ведь торгуете рамами и гравюрами?» — «Да». — «Так каких же художников вы тогда знаете? Вы знаете Уэста?» — «О да!» — «Опи?» — «Да». — «А Фюзели?» — «О да!» — «Но никогда не слышали обо мне?» — «Пожалуй, нет».
Из этого разговора ясно, что мистер Норткот недостаточно вращался среди торговцев картинами и газетных критиков. В другой раз некий джентльмен, сельский житель, портрет которого он писал, спросил его, отдал ли он свои картины на выставку в Сомерсет-хаусе. Получив удовлетворительный ответ, джентльмен пожелал узнать названия этих картин. Художник среди прочих упомянул «Свадьбу двух детей».
Тогда джентльмен весьма удивился и сказал, что это именно та картина, к которой всякий раз возвращается его жена, но он никогда не обращал внимания на фамилию художника. Если публика так жаждет развлечения и в то же время абсолютно не интересуется теми, кто ее развлекает, невредно время от времени напоминать ей об этом и даже научить скворцов напевать в ее сонные уши имена художников, которым она так обязана и которых так мало ценит.
Я не могу представить никакой иной причины, зачем художникам (не лишенным таланта и трудолюбия) так навязывать себя публике, заказывая собственные жизнеописания и бюсты, развешивая гравюры со своими портретами в витринах лавок, занося свои имена «среди первых в списке» — рядом с именами Рубенса, Рафаэля и Микеланджело — и клясться самолично либо устами своих поверенных, что прославленным мастерам стоило бы покинуть обитель праведников и с немым изумлением и воздетыми к небу руками воззриться на еще не просохшие творения великих потомков. Ах, делайте что хотите, но только не касайтесь этой струны! Поспешившая тронуть ее нечестивая рука да задрожит!
Не оскверняйте память об ушедших от нас великих людях, называя их рядом с именами живых, еще не приобщенных к лику святых. Сохраните умение спасаться от громогласной современности среди бессмертных! Не нужно подрывать собственного уважения к общественному мнению, всякий раз превращая его в чистый обман, в эхо вашего собственного голоса, охрипшего от криков восторга по собственному адресу! Не надейтесь запугать потомков или заморочить современников! Думайте не только о том, какое впечатление ваша картина произведет на зрителей, — больше старайтесь заслужить успех, чем завоевать его. Выписав столь много векселей на банк славы, не забудьте оплатить их чистым золотом. Поверьте, в занятиях высоким искусством есть нечто такое, что выходит за пределы изготовления хвалебной заметки в газете или сбора входной платы с посетителей выставки. Почитайте искусство как искусство. Изучайте творения других мастеров — и самой природы. Созерцайте красоту. Добейтесь величия ценою великих трудов, а не напыщенных претензий. Не думайте, что до вас мир был слеп к заслугам, и пусть слава гениев не превращается в предлог для вашего тщеславия.
Вы уже привлекли довольно внимания — а теперь заслужите его и оправдайте все свои обещания. Вошедшее в привычку молчаливое высокомерие представляет собой такой же бесстыдный и беспринципньш обман, как и самая наглая реклама. Скрытым или явным порицанием всех прочих видов искусства, произведений, притязаний, вкусов и талантов, кроме собственных, вы можете вызвать полное опустошение интеллектуального мира, в котором останутся только вы и ваши произведения — мощный памятник всеобщего разрушения и гибели гения. Если снести грубую подставку и убрать обломки вокруг нее, то кумир, вознесенный на пьедестал гордыни, будет готов без дальнейшей помощи предстать на всеобщее обозрение. Этот способ возвеличить себя еще непростительнее, чем расхваливание, ибо в самых ненавистных формах нарциссизм и тщеславие убивают возможность радоваться чему бы то ни было другому и, подобно вампиру, питаются плотью и кровью чужой репутации.
Одним словом, лучше с бессмысленной, пошлой самоуверенностью вечно толковать о себе, чем хранить злобное, бессердечное молчание при упоминании о заслугах соперника. Я наблюдал и то и другое, а потому могу судить справедливо. Нет особого вреда в выдвижении каких бы то ни было претензий, если это не превращается в озлобленность и ожесточение против других. Каждый старается выставить себя в самом лучшем свете и завладеть всеобщим вниманием. И в этом смысле «весь мир — театр, а люди — все актеры». Вся жизнь — лишь безобидное шарлатанство. Большой дом нужен только для того, чтобы возвестить о большом человеке, в нем живущем.
Одежда, выезд, титул, ливрейные лакеи — всего лишь жульнические объявления, свидетельства о мнимых заслугах. Звезда, сверкающая на груди, не стоила бы ничего, если бы не была знаком отличия, да и корона сама по себе — всего лишь символ добродетелей, унаследованных ее обладателем от длинной череды знаменитых предков. Как много чести и порядочности было принесено в жертву ради титула или ленты, и как много талантов и достоинств погребены без герба и эпитафии!
Люди богатые и знатные держат лакеев, чтобы укрепить свои претензии на самоуважение, а талантливые иной раз собирают круг почитателей, чтобы усилить свою популярность среди публики. Входящие в этот круг ргбneurs*, или приспешники, повторяют удачные выражения своих патронов, хохочут над их шутками и помнят все их непогрешимые пророчества. Такие прихлебатели превращаются в тени или эхо. Они говорят о своих покровителях в любом обществе и доносят им, как о них отзываются. Они нахваливают их достоинства, подобно тому как лавочники и зазывалы навязывают вам свой товар. Я совершенно не понимаю подобного тщеславия из вторых
рук; не могу также уразуметь, как подобострастные свидетельства нижестоящих лиц («спутников моих») могут служить доказательством заслуг. Они способны усладить слух, но чтобы им удалось провести рассудок — это выше моего понимания; а ведь есть люди, которые не могут обойтись без постоянной свиты подобных личностей, по которым они, улыбаясь, судят о мнении всего света, среди всевозможной злобной ругани и ненависти, — так Отон потребовал зеркало на иллирийском поле. Хорошо только то, что это зло в какой-то мере само себя исцеляет: когда стадо подхалимов почти уже довело человека до погибели, они, подобно непутевым нахлебникам, покидают его ради более тепленького местечка, унося с собой все сплетни, какие только сумели подобрать, и какие-нибудь поношенные наряды.
Та же страсть к низкопоклонству, которая побудила их пресмыкаться перед прежним кумиром, заставляет расстилаться перед восходящим светилом. Теперь они столь же щедры на клевету, как прежде на дифирамбы; любимец и почитатель редактора-теперь в свите редактора «Блэквуда». У человека лакейская душа, — так не все ли равно, чью ливрею он носит! Советую тем, кто добровольно принимается расхваливать что-либо, идти в этом деле до конца. Полумеры не годятся. Мажьте густо и не меньше трех слоев — не то все пропадет зря. Раз впрягшись в эту телегу, не вздумайте останавливаться. Пускайтесь прямо с места в карьер. Вы запряжены в колесницу могущественного Тамерлана, который покрикивает:
Ну, ну, балованные клячи Азии,
Неужто лишь двадцать миль проедете за день
Вы в его власти, ибо поставили свой вкус и разум на службу его таланту. Не сомневайтесь, что он этим непременно воспользуется. Попав в подобный переплет, вы сможете выбраться только силою. Как бы вы ни преувеличивали его заслуги — все будет мало. Любые попытки найти недостаток, ограничиться обыкновенным восхищением будут приравнены к государственной измене. Сказать, что последнее произведение вашего патрона не так хорошо, как предыдущее, или, ежели он актер, что одну роль он играет лучше, чем другую, — значит нанести ему непростительное оскорбление. Как-то при мне один актер заявил, что никогда не заглядывает в газеты и журналы, потому что его там вечно ругают; между тем в его труппе не менее трех человек взяли на себя задачу «кричать о нем выше всякой меры» через эти трубопроводы славы. Такая требовательность, право, слегка чересчур! Модным способом завоевать известность служит покровительство. Оно может быть продиктовано разными причинами — и истинным добросердечием, и хорошим вкусом, и тщеславием, и гордостью. Здесь я пишу только о притворных чувствах. Шарлатан и мнимый меценат обычно подходят друг другу. Дом последнего представляет собой своего рода лавку заморских диковинок или menagerie*, собрание всевозможных умствующих выскочек и чудаков: тут и музыкально одаренные дети, и диво-математики, и философымистики, лекторы, accoucheurs**, мимы, алхимики, скрипачи и шуты — кто угодно; всех их по первой же просьбе показывают бесплатно. Складные двери распахиваются и открывают ни с чем не сравнимую коллекцию.
Среди этой толпы могут попасться несколько вполне разумных людей с твердой репутацией, ran nantes in gurgite vasto***, остальные же представляют собой просто свалку или лотерею. Самозваные попечители тонкостей литературы и искусства, разочаровавшись в великих, посылают собирать по большим дорогам увечных, хромых, слепых — всех, кто притязает на достоинства, недостатки, странности, посылают искать все наличное в городе тщеславие и притворство в надежде, что среди такого множества диковин случайно обнаружится истинная жемчужина, из которой посчастливится извлечь пользу лично для себя либо завоевать авторитет, демонстрируя ее другим. Самое главное — это поощрить восходящий талант, обратить всеобщее внимание на сомнительные, никем не замеченные заслуги. Тогда вокруг вас собираются новички и начинающие; их нынешние произведения не ранят вашего себялюбия, а будущие, может быть, сделают честь вашей удивительной, мудрой способности разглядеть талант в зародыше. Поскольку они к тому же полностью в вашей власти, вы вольны в любое время выгнать их и заменить очередным набором изумленных, неумытых физиономий, новым «выводком детей», будущих актеров, художников, поэтов и философов. Надо оно неоперившимся птенцам, их высиживают, выхаживают, кормят с руки; это, естественно, оставляет полный простор для распорядительства, вмешательства, заботы, снисходительного беспокойства; но как только выводок оперится, их выгоняют из гнезда и выпускают в большой мир. Первое же настоящее произведение решает вопрос о взаимоотношениях художника с покровителем, и с того момента талант становится достоянием публики. Таким образом череда назойливых, голодных, праздных, самоуверенных искателей славы получает поощрение от своих изменчивых хранителей, которые затем непременно их предают, обрекая или на голодную смерть, или на попрошайничество, или на тоску безвестности; между тем забвение, позор и поношения выпадают на долю достойного и порядочного человека лишь потому, что он отказывается служить орудием в этой системе грандиозного жульничества и потакать роскошеству и слабостям вульгарного величия. Если чересчур независимый характер мрлодого художника не позволяет ему подчиняться догматам вышестоящих, если его удивительный талант слишком быстро оправдывает их прогнозы и предсказания относительно своего развития и позволяет не идти на поводу у патронов, а искать поддержки у публики, обычно возникают возражения против его одежды, выговора или манер, и его изгоняют из круга приближенных — с репутацией человека неблагодарного и ненадежного.
Долго терпят только того, кто не противоречит общему мнению и не вызывает зависти вышестоящих. Каждый независимый шаг взывает к публике, ненавистным, естественным врагам мнимых покровителей искусства, и разрывает контракт, подразумевающий показное одобрение, с одной стороны, и подобострастную покорность — с другой. Но довольно об этом.
Оказание покровительства талантливым людям, даже если подсказано тщеславием, нередко сопровождается великодушием и щедростью, но только до тех пор, пока эти люди страдают под бременем трудностей и остаются в зависимом положении; однако поскольку покровителями в данном случае движет любовь к власти, их интерес к предмету дружеского участия угасает, как только исчезает возможность или необходимость явно демонстрировать власть, и как раз в ту минуту, когда несчастный protege* вот-вот достигнет берега и в последний раз ожидает помощи, его, к немалому изумлению, отталкивают назад — и все ради того, чтобы позволить покровителям еще раз спасти его от гибели в бурных волнах житейских. Вопреки вашим ожиданиям, эти добрые друзья, после пережитой вами борьбы и всех своих усилий помочь вам, не приветствуют вас на берегу и не торжествуют победу вместе с вами. С вашей стороны весьма нескромно и самонадеянно разгуливать по terra firma:** вы рискуете лишиться их дружбы, если не будете всю жизнь барахтаться в бурном море, дабы они могли записать себе в актив, что бросили вам спасительный канат или послали за вами шлюпку — при этом никогда и не думая вытаскивать вас на берег.
Ваши успехи, вашу известность (а вы-то думали, они будут радоваться им как оправданию своего доброго о вас мнения!) они принимают очень холодно и смотрят на них косо, ибо, добившись того и другого, вы перестаете зависеть от своих покровителей. Если вы в беде, то благодетели изо всех сил стараются, чтобы вы из нее не выбрались; они так чувствительны к изъявлениям благодарности, что не хотели бы, чтобы вашим обязательствам по отношению к ним когда-нибудь пришел конец; они принимают меры, лишь бы кто-нибудь другой не сделал вам одолжения. И коль скоро вы будете вынужденно либо добровольно вечно пребывать в бедности, безвестности и немилости, они останутся вашими добрыми друзьями и покорными слугами до конца жизни.
Условия такого договора между хозяином и подмастерьем очень жестки. Подобные люди добровольно лишают себя благодарности за годы дружбы своим отказом совершить последний добрый поступок, после которого никто наверняка у них ничего больше никогда не попросит; они одолжат вам деньги, если у вас нет надежды вернуть долг; они замолвят за вас словечко, если никто ему не поверит, и никогда не простят только одного: вашей попытки — или появления у вас возможности — отплатить за оказанные вам одолжения.
Во всем этом проявляется некоторое бескорыстие, во всяком случае, отсутствие трусливой и продажной натуры, но стоят за этим в немалой степени высокомерие и властолюбие. Окончательную точку в вопросе о благодетелях ставят размышления о том, кому чаще всего покровительствуют великие мира сего и кто чаще всех получает письменные приглашения на роскошные обеды. Признаюсь, меня в этом списке нет, по поводу чего я не сильно огорчаюсь и совсем не удивляюсь.
На писателей, как правило, спрос невелик. Когда доктора Джонсона однажды спросили, почему его так редко приглашают в гости, он сказал: «Важным лордам и леди не нравится, когда им не дают говорить». Гаррику эти трудности были незнакомы: он умел забавлять светское общество, подражая великому моралисту и лексикографу, — так же как мог довести негритенка во дворе до приступов дикого хохота, изображая важность надутого индюка. Это выходило ловко и забавно, но не требовало выражения мнений и не вызывало разногласии, в которых хозяин дома мог оказаться неправ. Актеры, певцы, танцовщики легко сходятся с высокими особами. И те и другие любят прихорашиваться, придавать eclat* своим именам, но между ними не бывает столкновений. Выдающихся портретистов тоже терпят, потому что они лично общаются с сильными мира сего; скульпторы становятся наравне с лордами, когда имеют в мастерской глыбу твердого мрамора, способную подкрепить основательность их претензий.
Состоятельные люди и люди светские должны располагать чем-нибудь в обмен на свое покровительство, чем-нибудь зримым и ощутимым. Чувство принадлежит к миру воображаемого, споры могут привести к опасным последствиям, и тем, кто склонен к тому или другому, не место в хорошем обществе. Проложив себе туда дорогу, поэты и другие одаренные люди очень скоро получают от ворот поворот. Они там чужие, за редким исключением. В общении с монархами художников выручает либо прислужничество, либо шутовство, то есть умение опуститься ниже своего уровня. Сэр Джошуа никогда не был придворным фаворитом. Он всегда соблюдал расстояние. Зато Бичи своей фамильярной манерой обращения с высокими покровителями добился большой милости, но лишился ее, зайдя слишком далеко*. Уэст также затесался в те сферы — средствами, делающими ему не больше чести, чем его августейшему повелителю, а именно лицемерным изображением чувств, противоположных истинным. Говорят — не знаю, насколько справедливо, — будто короли любят низкое общество и дурного пошиба разговоры.
Говорят также, что они любят сомнительные расхожие шутки. Если это правда, то причина такова. Привычные к гордости и лести, они с высоты своего положения взирают на копошащееся внизу остальное человечество и хотят, чтобы все понимали: привилегии достались им не напрасно. В частной жизни они хотели бы сохранять такое же почетное место, какое принадлежит им согласно этикету на парадных церемониях. Однако исполнения этого желания они честным путем добиться не могут, ибо умом и красноречием не превосходят обыкновенных людей. Вот почему на остроумную реплику они отвечают грубой шуткой, обращающей насмешку в сторону того, кто в силу подчиненного положения не в состоянии ответить как полагается. Таким образом они пользуются привилегиями своего статуса, чтобы бесцеремонно обращаться с приближенными и помыкать ими, так как собственное достоинство могут поддержать только ценой унижения всех вокруг.
У.Хэзлитт


 20.12.2013
20.12.2013  admin
admin
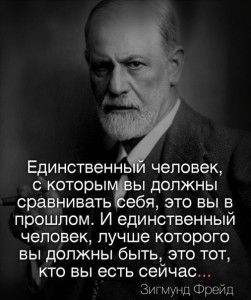
 Рубрика:
Рубрика:  Метки:
Метки: 


