Далекое нравится нам прежде всего потому, что вызывает представление о пространстве и величине. К тому же, из-за того что оно не мозолит нам глаза, мы рисуем его расплывчатыми, прозрачными красками нашей фантазии. Глядя на окутанные туманом горные вершины на горизонте, мы словно сознаем, как много интересного лежит на пути к ним; мы представляем себе всевозможные приключения, страстно хотим и надеемся достичь начертанной в воздухе гряды или же «различить материки, потоки и хребты», простирающиеся далеко за ее пределами; наши чувства, вышедшие из обычных рамок, теряют грубость, сухую оболочку; они очищаются, ширятся, смягчаются, озаряются красотой, обретая неземные очертания и цвет небесной синевы.
Мы впитываем в себя окружающий воздух и возвышаемся до более духовного существования, ибо окружены предметами, витающими на грани бытия. Там, где пейзаж исчезает из поля нашего слабого зрения, мы наполняем пустое пространство видениями непостижимого добра и окрашиваем зыбкую перспективу упованиями, желаниями и чарующими страхами:
Но ты, Надежды дивный взгляд,
В чем мера тайная твоя?
Ты, вечны радости тая,
Приветствуешь природы сей наряд.
Все, что оказывается за пределами ощущений и знания, все, что неясно различимо, — все это на досуге собирает по кусочкам фантазия. Поэтическое же вдохновение пробуждается только благодаря тому, что не сиюминутно, происходит не здесь и сейчас. Паря на распростертых крыльях, оно оставляет на всем свой образ. Оно царит над бесконечными просторами, и все далекое нам нравится потому, что оно ему одному подвластно и послушно. В детские годы я жил в месте, откуда видна была гряда высоких холмов’, чьи голубые вершины в лучах заходящего солнца часто будили в глазах моих жажду видеть, в ногах — стремление к странствиям.
Наконец настал день, когда я добился своего и, подойдя поближе, увидел, что вершины эти состоят не из фантастических фигур, сотканных из мерцающего воздуха, а из гигантских неуклюжих нагромождений бесцветной земли. Это отчасти побудило меня отказаться от «посещения Ярроу»6 и не бередить понапрасну гфиятные грезы. Расстояние во времени производит такое же действие, что и расстояние в пространстве. Не приходится удивляться, что фантазия окрашивает будущее в любые угодные ей цвета, — ведь она может даже стереть всё из памяти. Время извлекает жало страдания; с течением лет наши печали подвергаются воздействию мыслей и страстей, «ломающих их сущность», и от первоначальных впечатлений остается лишь то, что мы хотим сохранить.
Не только крутой склон впереди, на который нам не доводилось взбираться, но и неприглядные, грубые нагромождения прошлых переживаний очень скоро вновь обретают способность нас обманывать: золотое облако опять окутывает их макушки, а ггурпурный свет фантазии8 преображает их наготу. Так мы живем — конец и начало нашего бытия соприкасаются с небесами. Можно сказать, что в сознании человеческом движется «мощный поток, устремленный» к добру; он незаметно увлекает за собой все увиденное и пережитое; и хотя на жизненном пути нам достаются сильные удары, встречаются скалы и зыбучие пески, однако «в делах людей бывает миг прилива», бурная, неустанная устремленность души, благодаря которой, «рангоут потеряв и такелаж», изрядно потрепанный остов и отдельные обломки нашего существа добираются до вожделенной гавани!
Во всем, что затрагивает чувства, мы принимаем желаемое за действительное, и поэтому, как только прекращается давление неблагоприятных обстоятельств, сознание отбрасывает их власть над собой, вновь обретает гибкость и воссоединяется с тем самым образом добра — в сущности, лишь отражением и формой его собственной природы. На расстоянии, в ретроспективе уходящих лет самые ничтожные события, разросшиеся и обогащенные бесчисленными воспоминаниями, обретают интерес, и даже самые мучительные переживания успокаиваются, когда их смягчает и рассеивает время. Как волнует нас все, что неожиданно пробуждает в памяти картины прошлого и связанные с ними мысли и чувства! Какое томление возникает в душе, какое страстное желание преодолеть пространство между ним и нами!
С какой нежностью мы цепляемся за него, пытаясь оживить прежние впечатления!
Воображенье так легко играет
На самом деле мы обманываем себя и сами не знаем, чего хотим. Хитрая выдумка, странная иллюзия позволяют нам, делая вид, будто мы всё те же, какими были в определенный момент в прошлом, оставаться такими, какими стали с тех пор, вернуть себе всю прожитую жизнь. Внимание наше приковано не к крошечной, еле мерцающей, почти угасшей искорке вдали, не она «в биенье сердца нашего трепещет» — на самом деле волнуют нас годов «превратности»14, отделяющие нас от этой искры, каковая обозначает их зыбкий предел.
В этой широкой пропасти нашего существования «теснятся нежные желания» и бесконечные сожаления. Именно перемены, контраст между тем, чем мы были и чем стали, придает полуистлевшим воспоминаниям титаническую силу и зримо возвышает наши чувства над их призрачной основой. Созерцая крайние границы бытия, мы пересматриваем заново карту своей жизни и прослеживаем в тревожном ожидании конца весь пройденный путь.
Как в ранней юности мы стремимся к взрослым занятиям, так, сходя со сцены, жаждем подобрать игрушки и цветы, радовавшие нас в беспечном детстве. В мальчишеские мои годы отец имел обыкновение водить меня в сад Монпелье в Уолворте. Хожу ли я туда теперь? Нет, сад заброшен, клумбы и газоны перерыты. Что же, разве ничто не может вернуть часы Сияния цветам и прелесть травам?’
Да нет, кое-что может! Я открываю шкатулку памяти и отзываю стражу рассудка — и вот место моих детских странствий оживает в первозданной красоте и даже обретает свежие краски. Какво сне, на меня накатывает новое чувство, ароматы более насыщенные, цвета более яркие; я ослеплен, сердце опять бьется в упоении, я вновь дитя! Предо мною только блеск, нарядность, роскошь, великолепие; мои ощущения словно покрыты сахарной оболочкой, украшены праздничной мишурой.
Я вижу клумбы яркоглазого шпорника, высокие, красно-желтого цвета каменные дубы; оправленные в золото огромные подсолнухи, вокруг которых жужжат пчелы; вижу заросли гвоздики и жарко рдеющие пионы, перезрелые маки, белоснежные лилии и бледную резеду — все это красиво рассажено и невероятно бурно растет; самшитовые бордюры, посыпанные гравием дорожки, свежеокрашенные арки, продавец сладостей, варенец — мне кажется, будто я и сейчас гляжу на них сияющим взором. Или они исчезли, покуда я их описывал? Не важно, они вернутся, когда я вовсе не буду о них думать. Все цветы, растения, газоны, сельские радости, что я видел в жизни потом, кажутся мне повторением «первого сада моей невинности»18, побегами и черенками, украденными с клумбы памяти. Так дорогие нам в детстве вещицы словно покрываются глянцем, когда мы оборачиваемся на них в более поздние годы, и обретают сладчайший аромат благодаря первому исторгнутому ими из сердца вздоху восторга:
…точно трепет ветра,
Скользнувший над фиалками тайком,
Чтоб к нам вернуться, ароматом вея.
Не меньше, чем сад, и по той же причине мне нравится огород. Если я вижу, как зреет капуста, или горох, или бобы, то всегда вспоминаю, как по завершении дневных трудов тщательно поливал грядки в Уэме и с каким огорчением наблюдал листья, чахнущие и сникающие на утреннем солнце. Опять же, никогда не могу смотреть без замирания сердца на летящего воздушного змея. Для меня он «причастен жизни».
Я чувствую, будто меня чтото тянет за локоть, ощущаю дрожь и волнение — в точности такие, как тогда, когда разматывал веревку своего змея и он поднимался вверх и парил среди облаков, а груз детских страхов и надежд взлетал вместе с ним. Змей и сейчас остается частью моего самосознания, как и тогда, и все еще кажется мне «веселым детищем стихий», товарищем моих детских игр, близнецом моих самых ранних воспоминаний. Я мог бы еще много рассказать о ребяческих забавах, но мистер Ли Хант так хорошо написал про это в помещенном в «Индикаторе» очерке о столичных лавках, торгующих игрушками, чго, продолжай я толковать об этом, я бы прослыл подражателем оригинального и занимательного автора, причем подражателем весьма посредственным. Звуки, запахи, а иногда вкус запоминаются лучше увиденного и, вероятно, лучше служат в качестве звеньев в цепи ассоциаций.
Причина этого, похоже, в следующем: они по своей природе прерывисты и сравнительно редко нам являются, тогда как видимые предметы всегда тут и, непрерывно сменяясь, словно вытесняют друг друга. Глаза наши постоянно открыты, и в промежутке между тем или иным впечатлением и его повторением тысячи других запечатлеваются в нашем восприятии и сознании. Прочие наши органы чувств менее активны и бдительны. К ним не так часто прибегают. Слух, например, легче привлечь тишиной, нежели шумом, а звуки, нарушающие тишину, глубже проникают в сознание и дольше в нем задерживаются. Вот почему я лучше и живее помню определенные запахи, звуки, вкусовые ощущения, нежели иные зрительные образы — первые более свежи и менее изношены частым повторением.
Если между двумя впечатлениями, как бы далеко ни отстояли они друг от друга во времени, ничто не вклинивается, то естественным образом кажется, будто они соприкасаются, и новое впечатление во всей полноте возвращает прежнее, не отвлекая от него и не соперничая с ним. Даже тридцать лет спустя во рту у меня сохраняется вкус барбарисовых ягод, висевших среди снегов суровой североамериканской зимы, — сохраняется потому, что за все это время я не пробовал ничего подобного. Вкус этот существует сам по себе, почти как воспринятый шестым чувством. Однако что касается цвета, то он давно спутался с цветом многих других ягод, и я бы не отличил его от других.
Залах печи для обжига кирпича свидетельствует о ее ни на что не похожем своеобразии, и для меня он благодаря особым ассоциациям не неприятен; цвет же дробленого кирпича, напротив, обыденнее и легко смешивается с другими цветами. Даже у Рафаэля он не очень четко отличается от телесного цвета. Не стану утверждать, что мы лучше запоминаем человеческий голос, чем сложную картину, называемую человеческим лицом, но думаю, что знакомый голос, внезапно услышанный, волнует и поражает больше, чем неожиданно встреченное знакомое лицо; происходит это, быть может, оттого, что голос мы помним лучше, чем лицо, и поэтому он скорее застает нас врасплох.
Я ничуть не уверен в том, что, вообще говоря, другие наши органы чувств столь же точно и ярко передают образы, как зрение; просто случайные ощущения, связанные с другими органами, сохраняются в большей чистоте и независимости. Эта закономерность объясняет также притягательность и романтичность музыкальных звуков. Раздавайся они постоянно, к ним не возникло бы ничего, кроме равнодушия, подобного тому, какое вызывают неприятные шумы, которые мы через какое-то время перестаем слышать. Что может быть печальнее судьбы слепого скрипача, у которого осталось только одно чувство (кроме, разумеется, пристрастия к табаку)*, да к тому же пришибленное или оглушенное издаваемыми им же самим отвратительными звуками. Шекспир говорит:
Как серебристо голоса влюбленных
Звучат нежнейшей музыкой в ночи!
В разъяснениях к этому фрагменту обычно замечают, что днем влюбленные смотрят друг другу в лицо, а ночью различают только звуки своих голосов. Не знаю, верно ли это, но я до недавних пор слышал в полной тишине только один голос — «на ангельский он был похож», а благоуханием своим так чаровал пронизанный лунным светом воздух, что в ответ ему трепетали свежие листочки. Ах, если бы я мог еще раз услышать шепот, суливший покой и надежду (тот самый шепот, что смешивался когда-то с дыханием весны), и с нежным волнением подняться к небесам на крыльях фантазии! Но голос замолк — или ушел туда, откуда до меня долететь не может. Вот почему мы понимаем прелесть пастушеской свирели и слышим ее звучание даже на картине. Уши наши во власти фантазии! Помню, однажды в одном из глубоких долов Солсбери-Плейн бродил я по берегу реки, окаймленной ивами и камышовыми зарослями, там, где монахи прошлых веков возводили часовни и устраивали приюты отшельников. Неподалеку находилась
приходская церквушка, но высокие вязы и трепещущие на ветру кусты ольхи скрывали ее от меня. Вдруг до меня донеслось, заставив вздрогнуть, полнозвучное грохотание органа, сопровождаемое голосами сельских певчих и радостным хором деревенских девушек и детей. Звуки вознеслись надо мною, «как аромат столь сладостный».
Они, казалось, вобрали в себя росу с тысячи мягких пастбищ; в них звенело тысячелетнее безмолвие; сердце постигало спокойную красоту смерти; фантазия ловила эти звуки, и вера устремлялась на них к небу. Они наполняли долину, словно туман, и лились, лились в бесконечном пении, и теперь еще гремят у меня в ушах, погружая все мое существо в дивное оцепенение и заглушая шумные треволнения мира!
В эссе мистера Ферна о сознании, который должен помочь мне спуститься от бурных восторгов на твердую почву здравого смысла и рассудительности, весьма любоггытны размышления о сравнительной отчетливости наших зрительных и иных внешних впечатлений. После замечания о том, что неправильно считать, будто зрительные ощущения непременно запечатлеваются ярче и живут дольше, нежели те, что возникают благодаря более примитивным чувствам, автор приводит ряд аргументов в пользу своей теории. Вот что он пишет:
Несмотря на перечисленные здесь преимущества зрительного восприятия, не сомневаюсь, что всякий человек забудет знакомых и многие предметы, что повидал в зрелости, раньше, чем у него хоть немного выветрятся воспоминания о не столь уж интересных запахах и вкусовых ощущениях, встреченных им в детстве или в любом более позднем возрасте. Во время путешествий в далекие края мне не раз доводилось пробовать такое, что ни до, ни после никогда больше не попадалось. Кое-что было приятно на вкус, кое-что едва ли не пресно, но у меня нет оснований думать, что я забыл или неправильно запомнил эти однократные вкусовые впечатления, хотя сохранились они в памяти вовсе не благодаря повторению.
Ясное дело, что я не только пробовал, но и видел свои кушанья, однако знаю твердо, что точнее помню их вкус, чем вид. Помню, что один раз, только раз ел кенгуру в Новой Голландии28 и лишь однажды ощущал необычайньш запах булочной в Басре2!. Нынче оба эти незамысловатые впечатления так же живы, как зрительные, и дело тут не в повторении, а в силе восприятия. Двадцать восемь лет назад на Ямайке я попробовал (кажется, два раза) некий плод и до сих пор очень отчетливо помню его вкус; могу привести и другие примеры такой же давности. У меня много доказательств того, как легко через различные промежутки времени забывались мною те или иные зрительные впечатления, даже очень привычные.
За тридцать лет я не забыл тонкое, хотя и пустяковое само по себе ощущение, возникавшее в ладони, когда я в детстве пробовал и так и эдак запускать игрушку, которую мальчишки называют «волчок», но не могу припомнить в точности оттенок коричневого пиджака, который перестал носить на прошлой неделе. Если кто-нибудь полагает, что способен на большее, пусть подвергнет мысленному обзору весь свой гардероб, а потом откроет шкаф и убедится в истинности своих представлений. Покуда я помню такие впечатления, меня, конечно, будет нелегко убедить, будто вкус, запах, ощущение оставляют отпечаток только в том случае, если невнятны и смутны <…>. Покажите лондонцу правильные модели двадцати лондонских церквей и одновременно модели, в существенных чертах отличные от оригиналов, и, смею думать, он не скажет вам (разве что случайно), которые из них верны.
Архитектор, пожалуй, окажется ближе к истине, нежели обыкновенные люди, ибо архитектор, конечно, рассматривал эти здания с большим интересом, чем они, и только интересом можно объяснить в этом случае более правильное запоминание. Однажды я слышал, как некто лукаво спросил собеседника: «Сколько деревьев на кладбище при соборе Святого Павла?» Вопрос сам по себе показывает, что многие не могут ответить на него, в том числе и те, кто сотни раз ходил мимо собора; потому не могут, что в людском потоке возле Святого Павла каждый поглощен разными другими мыслями. Как часто мы входим в знакомую квартиру или встречаем доброго знакомого и смутно ощущаем в них что-то новое, но никак не можем разобрать, в чем оно заключается, пока наконец не заметим (или пока нам не скажут), что в квартире появились новые украшения или мебель либо исчезли или как-то переделаны старые, а приятель наш подстригся, надел парик или еще в чем-то существенно изменился. А иногда мы даже и не ощущаем изменений, хотя они могут быть вполне очевидны.
Нет сомнений, однако, что когда что-то нам интересно, зрение сохраняет довольно точные подобия впечатлений, в особенности впечатлений не слишком сложных, вроде, например, выражения лица или очертаний фигуры. И все же голос достовернее, чем лицо. Тот, кто может воссоздать сходство по памяти, считается первоклассным художником и даже незаурядным талантом. Более того, очевидным доказательством неточности зрительных впечатлений следует считать тот факт, что строгое воспроизведение человеческого лица хотя бы и с натуры, требует высочайшего мастерства, достижимого лишь благодаря многолетней практике; и даже когда художникам удается избежать сознательного обмана, вызванного желанием польстить, самые лучшие из них, несмотря на опыт и заинтересованность в успехе, лишь в очень редких случаях добиваются подлинного сходства.
Мне кажется, что обыкновенному человеку, знакомому с искусством рисования, было бы весьма затруднительно сделать по памяти сносный набросок столь узнаваемых предметов, как занавеси, ковер, халат, если бы те отличались каким-нибудь необычным, затейливым узором; однако и такой человек сразу совершенно точно почувствует, если сегодня нюхательный табак или вино — вещества, представляющие собой смеси, — будут отличаться от вчерашних. И наконец, я должен отметить, что торговец мануфактурой, который ежедневно сравнивает различные ткани, не способен и секунды удержать в голове особый оттенок цвета и может уверенно подобрать цвет, только если оба образца будут лежать рядом (Эссе о сознании. С. 303).
Мне хотелось бы исчерпать тему очерка одним наблюдением. По-моему, близкое знакомство с людьми сильнее и благотворнее влияет на нас, чем знакомство с различными местностями или предметами. Последние (в подавляющем большинстве случаев) выглядят интереснее на расстоянии, первые, как правило, — когда приближены к нам и лучше нам знакомы. Молва и воображение редко возносят кого бы то ни было так высоко, чтобы мы могли испытать сильное разочарование при встрече с этим лицом; предубеждение и злоба постоянно преувеличивают недостатки до полного неправдоподобия. Да что там: даже незнание рождает чудовищ и пугал; тогда как все найти знакомые на самом деле вполне обыкновенные люди.
Дело в том, что, исходя из слухов и предположений, мы представляем себе отвлеченные пороки и возмущаемся определенными свойствами и поступками неприятных нам людей; между тем каждый человек — конкретное существо, несводимое к выдуманным кличкам или прозвищам, и обладает множеством разнообразнейших качеств, хороших, дурных или нейтральных — наряду с резко отрицательными чертами, коими мы наделили его в придуманных нами портретах или карикатурах. Мы вряд ли способны ненавидеть того, кого знаем. Один тонкий наблюдатель жаловался, что, даже когда особенно сильно кое-кого возненавидел и захотел это продемонстрировать, ровно в тот момент, когда он пришел с ним потолковать, враждебность улетучилась благодаря непредвиденным обстоятельствам. Пусть перед ним был обозреватель из «Ежеквартального обозрения» — во всем остальном он предстал обыкновенным человеком. Предположим, что ваш противник оказывается страшно уродливым или одноглазым — и вы сразу сбиты с толку: он — не то, чего вы ожидали, не предмет отвлеченной ненависти и неумолимого отвращения. Он, быть может, крайне неприятен, но он не таков, как вы думали. Если вы входите в комнату, где сидит какой-нибудь человек, обычно на его лице обнаруживается нос. Значит, у него есть с вами «точка соприкосновения».
Одно это удерживает вас от безграничного презрения. Он глуп и ничего не говорит, но, когда смеется, в нем вроде бы что-то есть! Вы полагали, что он отъявленный виг или тори, — а он, оказывается, толкует о чем-то другом. Вы знаете, что он в своих писаниях яростно поддерживал свою партию и выступал с язвительными нападками на противников, но, выходит, сам по себе он вполне ручной зверек — не кусается, а это уже кое-что. Словом, тут ничего не разберешь. Даже противоположные пороки уравновешивают друг друга. Человек может быть очень дерзким в обществе, но одновременно и очень скучным — и вы потому не в состоянии, как ни стараетесь, искренне его возненавидеть из одного желания оскорбить. Он негодяй. Согласен. Вы узнаете при более близком знакомстве то, чего не знали раньше: он еще и дурак в придачу, поэтому прощаете его. С другой стороны, он может оказаться продажным политиком и не скрывать этого, но он сердечно жмет вам руку, добродушно разговаривает с прислугой и содержит стариков — отца и мать. Если отвлечься от политики, он человек очень порядочный. Вам сообщают, что у такого-то на лице карбункулы, но ваши глаза говорят вам, что лицо у него бледное, как у призрака, и болезненное. Это ненамного лучше, но притупляет жало насмешки и обращает ваше негодование против того, кто измыслил ложь; он — издатель одного шотландского журнала, так что деваться вам некуда.
Я не любитель анонимной критики, я хочу знать автора, но как только это выясняется, я вполне удовлетворен. Даже-правильно поступил бы, сбросив маску. Ведь именно ее мы боимся и ненавидим, а в том, кто за нею прячется, вполне может отыскаться что-нибудь человеческое. Короче говоря, наши представления о людях, возникающие на расстоянии, на основе гфистрастных отзывов или догадок, примитивны и никак не соответствуют дейсгвительности; представления же, извлеченные из опыта, напротив, сложны, единственно истинны и обычно наиболее благоприятны. Вместо обнаженного уродства или отвлеченного совершенства
Никем не виданных безгрешных чудищ
«ткань нашей жизни сделана из смешанной пряжи — плохой и хорошей вместе. Наши добродетели возгордились бы, если бы их не бичевали наши пороки, а пороки наши отчаялись бы, если бы их не защищали наши добродетели». Эти прекрасные справедливые слова давным-давно сказал некто, кто знал сильные и слабые стороны человеческой природы; но смысл их еще долго не уразумеют сторонники партий, сект и те философы, которые гордятся и похваляются своим умением классифицировать людей по их прозвищам.
У. Хэзлитт


 24.11.2013
24.11.2013  admin
admin
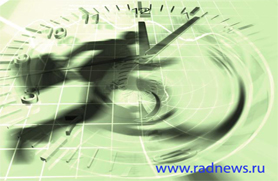
 Рубрика:
Рубрика:  Метки:
Метки: 


